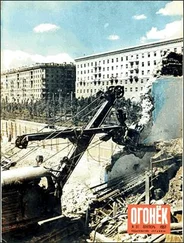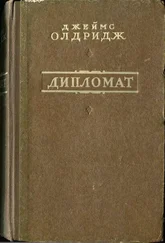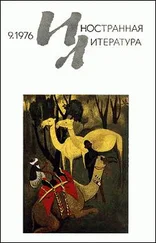— Значит, дело не в твоих убеждениях, Нед, а в чем-то гораздо более обыкновенном? Может быть, это просто бегство? Тогда, может быть, я сумею уговорить тебя остаться. Хотя бы ради семьи, если уж не ради чего-либо иного.
— Едва ли я могу быть полезен семье, мама. Грэйс, став или не став католичкой, выйдет замуж за Фримена и всю жизнь будет терпеть его лицемерие, если только я не пристрелю любезного зятя где-нибудь в глухом уголке пустыни. Джек, бедный миролюбец Джек, достигнет полной гармонии мыслей и чувств, изготовляя бомбардировочные приспособления для самолетов.
Матери показалось, что эта мысль для него больнее всех других; не зная, как облегчить эту боль, она решилась напомнить ему о себе.
— А я? — спросила она. — Разве передо мной у тебя нет обязанностей?
Он посмотрел на нее с тоской. — Я, кажется, утратил уже представление о своих обязанностях перед вами, мама, но я знаю, что мое пребывание здесь ничего не может вам дать.
— Ты мне отказываешь даже в праве тревожиться о твоей судьбе?
Ему не хотелось отвечать. Он молча отвел глаза, словно подчеркивая, что не хочет никакой нежности, никакого тепла, никаких проявлений доверия, которые могли бы послужить связующим звеном между ними. Но его не надолго хватило.
— Если для вас так важно, чтобы я остался, я останусь.
Казалось, он даже не сознает, какую огромную ответственность взваливает на нее, предоставляя ей решать вопрос, от которого сейчас зависело все в его жизни: оставаться ли ему в Англии или ехать в Аравию. Мать посмотрела на него с недоумением и даже с ужасом, как будто чувствовала, что любой ее ответ явится для него смертным приговором: остаться, соблюдая верность долгу, — значит зачахнуть здесь; уехать, нарушив слово, — значит обречь себя на пожизненное изгнание.
— Ты меня как-то просил, когда я с тобой, не касаться ни политики, ни своих материнских чувств, — сказала она. — Но ведь только как мать я могла бы просить тебя остаться в Англии, Нед. Природа и инстинкт имеют свои права. И все-таки я готова поступиться всем этим, если внутренняя правда и внутреннее убеждение велят тебе вернуться в Аравию. Я не хочу насиловать тебя, не хочу требовать, чтобы ты пошел против самого себя. И потому я не прошу тебя остаться.
Он молчал.
— Но мне не хотелось бы, чтобы ты уехал с тяжестью на душе, — настаивала она.
— Нет, мама.
— Тесс уехала обиженная?
Он покачал головой: говорить ему не хотелось.
— Я уговорю Тесс вернуться, Нед, — сказала она. — За это время она стала для меня больше, чем дочерью, и она мне нужна, особенно теперь, когда ты будешь в Аравии. Я уговорю ее вернуться, тогда и ты сможешь быть за нее спокоен, зная, что она здесь, с нами, а не влачит где-то жалкое и бессмысленное существование.
Он только грустно кивнул в ответ.
— И Смит пусть живет у нас, — продолжала она, охваченная своими материнскими заботами. — Ему хорошо с Джеком, и он будет очень рад поселиться здесь.
— Смит поедет со мной, — сказал Гордон.
— Что ты, Нед! — вне себя воскликнула она. — Это была бы большая ошибка! Ему нечего делать в Аравии. Он сам говорил мне, что здесь, у Джека, он впервые в жизни почувствовал, что приносит пользу, и счастлив этим. Не сбивай его с толку. Может быть, тебе и нужно ехать в Аравию, но ему — нет, никогда.
Ее волнение было так непосредственно, тревога так сильна, что Гордон следил за нею с болезненным интересом. Она инстинктивно цеплялась за Смита больше, чем за самого Гордона. Страх потерять Смита пересилил ее обычное благоразумие и редкостное уменье владеть собой. Была в этом какая-то тень иронии — в том, что Смит наконец дождался награды за свою скромность.
— Мир переходит к смитам! — сказал Гордон, повторяя давно придуманную формулу.
Но он знал, что не в этом теперь дело; мать открыла ему настоящее значение Смита в его жизни. Именно присутствие Смита, слепого к тому, что в Аравии было главным, делало Аравию такой близкой, такой понятной, такой нужной Гордону. Чтобы Гордон мог полностью раскрыться в своем отношении к пустыне, найти в нем выражение своему истинному «я», необходим был Смит — для ясности и для контраста. В этом и был источник притягательной силы Смита. Гордон теперь понимал это, но не собирался пускаться в сентименты по этому поводу, отлично зная, что сентименты — корень всех глупостей. И так уже мать поставила его в нелепое и смешное положение; ведь он теперь должен был вступить с ней в борьбу за Смита, — только этого не хватало!
Читать дальше