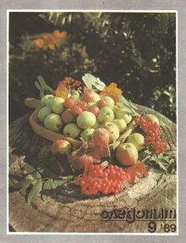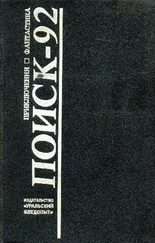Но самая главная и куда более печальная новость возникла перед ним в образе невзрачной сухонькой женщины, вышедшей из комнаты Голицыных с ключом в руках. Этот ключ мальчик не раз видел в руках рыжей девочки. Она всегда всаживала его в скважину лихо, с лету, но почти никогда не попадала и сразу начинала злиться. И отпирание замка превращалось у нее в сцену. «Чертов ключ! Дурак!» — приговаривала она, она вообще любила вслух обсуждать свои действия.
Теперь этот ключ неуверенно впихивала в скважину сухонькая женщина с озабоченным лицом; незнакомый замок не поддавался, она воевала с ним молча. Конечно, это могла быть родственница семьи инженера, но он почему-то сразу понял, что она не родственница, а новая жиличка. Тут же он вспомнил, что как-то слышал от взрослых, что инженер въехал в их дом ненадолго, что ему обещана квартира в новом доме, который строится где-то в другой части города. Отчего же, зная это, он не отдал себе отчета в том, что и рыжая девочка здесь ненадолго, и так трусливо тянул с объяснением — и вот дотянул… Женщина мучилась с замком, а он стоял у нее за спиной, не решаясь спросить, да и что спрашивать, и так все ясно; наконец решился и спросил сиплым, срывающимся голосом:
— А… Голицыны?
Ему очень нравилась их фамилия, в ней было, как ему казалось, что-то ленинградское, как и в молчаливости инженера и его жены, как и в белом лице и зеленых глазах рыжей девочки.
— Съехали позавчера, — с усилием произнесла женщина, и замок ей подчинился. Она для проверки подергала ручку, одну из красивых ручек синего стекла, вставленную в латунные держаки. — На Четвертую Загородную. — Ладонью она провела по косяку, еще и этим подтверждая, что теперь это ее комната. — Я соседка спокойная, тихая. В бараке жила и то не ссорилась…
Но он уже не слушал, весь во власти одного соображения, и оно преследовало его весь оставшийся день. Он пообедал, потом помог бабушке перебрать фасоль, потом пришли приятели, и в кухне была затеяна игра в подкидного, с шуточками-прибауточками, с присловьицами, полагающимися в этой игре. Все смеялись — он смеялся, и никто бы не заподозрил в нем человека, раздавленного горем, а горе было тяжелое, незнакомое, горе горькое, и было оно вовсе не в том, что «съехали», то есть и в этом тоже, но больше, острее — в том, что она знала и не сказала. Не зашла, не попрощалась и в тот вечер, за день до отъезда, не была ни печальной, ни даже озабоченной предстоящим переездом. И это яснее ясного означало, что в ней и в помине не было ничего из того, чем он наделял ее, никакого ответного чувства. Это и было самое горькое и безнадежное. И еще он понял, что больше никогда не увидит ее. Прошло лишь несколько часов, а он уже так свыкся с этой мыслью, что, казалось, Голицыны уехали очень давно и все, что было связано с рыжей девочкой, превратилось в давнее привычное воспоминание. Он больше не увидит ее никогда — это жило в нем в продолжение всего дня.
А вечером она пришла. Они столкнулись в коридоре, она сказала: «Привет!» — и постучалась в свою, отныне бывшую комнату. Вдруг в нем все замкнулось, захлопнулось, он словно бы выключил в себе что-то и спокойно спросил:
— Переехали?
— Переехали, — подтвердила она, — а я тетрадки забыла, сложила на подоконнике и забыла.
Тут новая жиличка открыла дверь и впустила рыжую девочку. И ей, исчезающей за высокой белой створкой двери, он вдруг крикнул:
— Подожди, не уходи! Я сейчас…
Он вбежал к себе, метнулся к письменному столу, вытащил первую попавшуюся тетрадку, рванул поперек, выдрал косо отлетевший лист; ломающимся карандашом вывел ее имя, поставил восклицательный знак и, не столько торопясь, чтобы не ушла, сколько боясь, что ему не хватит решимости написать это, если он хоть на секунду остановит карандаш, лихорадочно начертал: «Я люблю тебя», — и снова поставил восклицательный знак, и тут же пожалел об этом, потому что получалось, что сама эта жуткая в своей откровенности фраза еще не кричит, не вопиет сама по себе; ах, не надо было ставить второго восклицательного, он уже потянулся перечеркнуть его, но смешное соображение, что это будет похоже на исправление ошибки в тетрадке по русскому языку, остановило.
Некоторое время он глядел на этот все испортивший знак, как вдруг пришла счастливая мысль стереть его — впору было поразиться, как долго она не приходила. Он схватил резинку, стер восклицательный. Спрятал записку в кулаке, вышел в коридор, прошел в кухню, где, по счастью, никого не было. Отсюда была видна дверь бывшей голицынской комнаты, и можно было делать вид, что он зашел погреться у кухонной плиты. Он и грелся, тем более усердно, что его била холодная дрожь; время шло, дверь не открывалась. Он не вынес дальнейшего ожидания и постучал.
Читать дальше