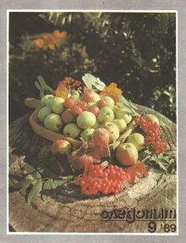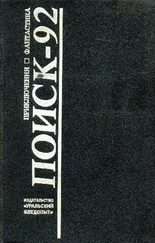А потом был суд, где выяснилось, что стрелявшим был не кто иной, как Борька! Мальчик, вспоминая, как не раз стоял с ним рядом на волейбольной площадке, все дни, что шел суд, неотступно размышлял об очередной для него загадке человеческой души. Борька знал, что он убил человека, что он убийца, и при этом играл в волейбол, самозабвенно кричал: «Пас!» — или давал пас и кричал: «Дави!»; и они прыгали рядом, оба в одинаковом упоении от игры. Что же он чувствовал на самом деле? Что чувствует на самом деле человек, когда убивает другого? Вскоре счастливый случай дал ему возможность познакомиться с этим ощущением.
В тот раз почему-то никто из пацанов не захотел поехать на футбольный матч, и мальчик отправился в долгое путешествие один. Трамваи в любое время ходили переполненные, а перед футболом — тем более.
Перегруженные вагоны тронулись со скрежетом, и все, кто еще не устроился на подножках, бросились на последний штурм. Самые настойчивые еще долго бежали рядом, подпрыгивая и напрасно пытаясь за что-то ухватиться. По мере того как огромный трамвай разгонялся, эти нелепо скачущие неудачники отставали с криками досады и яростно свистели вслед. С подножек и из раскрытых окон в ответ тоже свистели: заливисто, будто гоняли голубей, или короткими трелями, вроде тех, которыми подманивают к сетям синиц и чечеток — «тьи-тьи-тьи», что сейчас выражало насмешливое отношение к оставшимся.
Крепко обхватив поручень, мальчик тоже снисходительно посматривал на проигравших и с чувством глубокого удовлетворения отмечал свой нелегко давшийся успех. Всего их тут было шестеро или семеро — юных болельщиков, на подножке первого, моторного вагона, у его задней площадки. Мальчика притиснули к поручню так, что щека подперла глаз, как при сильнейшем флюсе. Зато он видел улицу. Его соседа развернуло лицом к стенке, и при всем желании ничего, кроме двух рядов заклепок, он увидеть не мог. Впрочем, у него, как и у всех, было отличное настроение. Пока они сражались на остановке, они были врагами. Каждый, круто наклонив голову, ввинчивался в толпу. Мелькали спины и затылки. Серые, коричневые, черные, синие спины курточек и рубашек, стриженные высоко, под макушку затылки. Иногда чей-то острый локоть больно ударял в грудь; разок кто-то большой, высокий рванул мальчика за шиворот и отшвырнул, как кутенка; а кого-то, наоборот, отпихнул он, да так удачно, что на мгновение очистился крохотный кусочек подножки, несколько металлических рубчиков, и этого мгновения ему хватило, чтобы утвердиться на подножке окончательно и бесповоротно.
Теперь они перестали быть противниками, как бы заключили молчаливый договор о дружбе и взаимопомощи. Впереди было два десятка остановок, и на каждой стояли другие желающие уехать, и потому вряд ли представится возможность, без риска потерять место, спрыгнуть на землю и размять затекшие ноги. Минут на сорок они становились дружной семьей, живущей по известной поговорке: в тесноте, да не в обиде. Шла еще небольшая возня, но толкались без остервенелости, миролюбиво; в стихийно возникшем коллективе происходил извечный процесс: самые настойчивые, дерзкие, настырные устраивались лучше всех; лишенные честолюбия, но не обделенные силой — чуть похуже; остальные — как пришлось.
Трамвай набрал скорость. Задул ветерок. Он приятно обдувал вспотевшие от борьбы тела. Все заулыбались, заперемигивались. Никто никого не знал, лишь двое были приятелями. Они оживленно переговаривались, приведенные в восторг их необыкновенной удачливостью, благодаря которой они находились именно здесь, а не на остановке, где, как можно было понять, остался их третий товарищ. Одного из них также радовало свежее воспоминание о том, как он кому-то врезал там, на остановке. Оно захватило его надолго, и он несколько раз выкрикивал: «Как дам ему… Как дам!»
Из ближайшего к подножке окна высунулся бритоголовый пацан, скорчил рожу, гикнул, потом заколотил ладонью по стенке и запел, ни на кого не глядя: «Эх, путь-дорожка фронтовая! Не страшна нам бомбежка любая! Помирать нам рановато, есть у нас еще дома жена…» — «Да не одна!» — с готовностью подхватили на подножке, и он поглядел на них, как артист на аудиторию, в которой привык к успеху. Скорчив еще рожу, он запел новую песню: «Десять лет мужа нет, а Марина родит сына… Чудеса, чудеса, чудный мальчик родился…» Казалось, роль клоуна и любимца публики уже упрочена, но тут другой пацан, из подножечных, затянул замечательным, нарочно дурным голосом: «Бананы ел, пил пиво на Мартинике, курил в Стамбуле злые табака… В Каире я жевал, братишка, финики…» Первый певец, не желая унижаться до соперничества, умолк, отвернулся и принялся плевать, а победивший продолжал концерт: «Встретились мы в зале ресторана, как мне знакомы твои черты, помнишь ли меня, моя Татьяна…»
Читать дальше