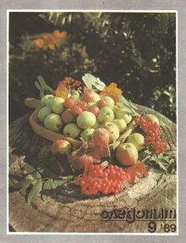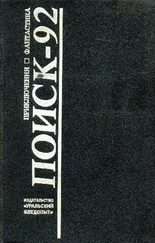Вот и теперь бабушка уезжала в деревни менять одежду на продукты. Окованный полосками блескучей жести сундук к концу войны опустел, обнажилось дно. Некоторые вещи уезжали и возвращались. Съездило и вернулось, например, бабушкино платье фиолетового шелка, с фонариками на рукавах, со сборками на длиннейшей, в пол, юбке: никому в деревне не приглянулся бабушкин наряд начала века.
Военврач-отец был невообразимо далеко. Это называлось — Дальний Восток. Вообще было очень мало мужчин вокруг, а молодых совсем не видно. Матери, бабки, тетки, старухи. В школах не учителя, а учительницы, в больницах не врачи, а врачихи, в магазинах — продавщицы, во дворах — дворничихи, в домах не коменданты, а комендантши.
Дети порой прикасались к войне, не подозревая об этом. По дворам и улицам мальчишки гоняли плоские железные колесца, с зубчиками по внутреннему кругу. Изготовлялась особо изогнутая проволока — водило. С тонким пением катилось послушное колесцо, особенно замечательно звеня на гранитных плитах, которыми улица была замощена на подъеме к Вознесенской горке. Через дюжину лет, студентом технического вуза, изучая на военных занятиях устройство танка, мальчик вспомнил эти колесца. Это были тормозные диски «тридцатьчетверки». Во дворы они, видимо, попадали бракованные, с заводской свалки.
Дворы, а также уличные газоны были распаханы под огороды, к середине лета картофельные гряды, цветущие белым и сиреневым, придавали улицам приятный вид. Огороды были опоясаны укрепленными на кольях металлическими лентами с прихотливыми вырубами внутри них; ленты эти выходили на заводах из-под штампов и тоже добывались на свалках.
Мальчик выглядел на свои семь лет, не больше и не меньше. Среднего роста, крепенький, ладный. Еще через семь за одно лето он станет высоким, стройным, с хорошими плечами, узкими бедрами, длинными руками. Но и сейчас видно — по выпирающим ключицам, по развороту грудной клетки, по крепким лопаточкам: широкая кость, будет расти.
Темные, почти черные волосы вились, мокрые — курчавились. После бани становился похож на цыганенка. Тем более — смуглое, в маму, лицо. Губы толстые, важные. Мимолетно глянуть — первое, что бросится в глаза: смуглота, курчавинки, губы. Но мальчик глядел не мимолетно, он досконально изучил себя в зеркале.
Зеркало у них замечательное: от пола до потолка, в раме красного дерева, «старинное». У них в доме много «старинного», не только в семье мальчика — у всех. Особняк, в котором теперь проживало тринадцать семейств, до революции выстроил богатый человек. Он, разумеется, был буржуем и сбежал вместе с белыми, оставив по всем комнатам мебель. Она и стала принадлежать новым жильцам особняка, обретшего после революции гордое имя коммуны, впоследствии превратившееся в обиходное понятие коммунальной квартиры. Правда, семье мальчика «старинное» бесплатно не досталось: въехали они сюда в конце тридцатых годов и мебель прежнего хозяина отец купил у жильца, который выезжал.
Ясность в «старинном» зеркале была необычайная. Видишь себя в полный рост с мельчайшими подробностями. К семи годам мальчик внимательно изучил свой облик и присудил: некрасив. Язык ли высунь, скорчив рожицу, подбоченься ли, улыбнись, обнажив крупные посередке зубы, а рядом остренькие, мелкие, печально ли глянь — все едино: в красивом зеркале некрасивый мальчик. А когда пошел в школу и по правилам тех времен остригли наголо, уши, до той поры прятавшиеся в густых завитках волос, вылезли наружу, и он с полным отчаянием постановил: безобразен. Хватало и губ этих, им ненавидимых, каждая толще, чем у других обе. Теперь еще и уши. Словно оборвали бабочке крылья и прилепили ему к голове. Жест появился: ладошками уши оттянуть к затылку и прижать — вдруг так и останутся?
А ведь до чего славно сиделось в высоком кресле парикмахерской, перед зеркалом, в котором отражался он сам, обернутый простыней, утонувший в ней, а за ним — мастер в белом халате, хромой дядька с алюминиевым гребешком, заткнутым за ухо, словно орлиное перо у индейца. Флаконы с одеколонами и духами повторялись в зеркале, и их получалось вдвое больше. Сначала он ощущал прикосновения сильных пальцев мастера, пропускавших через себя упругие завитки волос; потом сочно чмокали ножницы, и курчавинки, нежно скользя по щекам, ниспадали на укрытые простыней колени. Потом по голове покатилась, захрумкала гладенькая холодная машинка, и он зажмурился от страха и удовольствия. Наконец мастер распеленал его и, сказав: «Красавец!», добродушно хохотнул.
Читать дальше