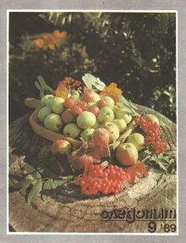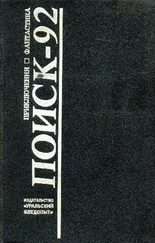Теперь керосиновая лампа за ненадобностью упрятана в кухонный шкаф, но он хорошо помнит, как еще несколько лет назад часто отключалось электричество, и тогда бабушка зажигала керосиновую лампу. До чего же приятно было, осторожно поворачивая колесико с насечкой, прятать или выдвигать фитиль, послушное пламя то забивалось внутрь, то рвалось к самому устью лампового стекла. Густо-синее на отрыве от фитиля, с синеватыми краями, светло-оранжевое посередке — казалось, видно, как оно течет из фитиля. Если это было летом, из раскрытого окна прилетал мотылек, и горячий ток воздуха над устьем играл им, как струя фонтана брошенным в нее мячиком, а потом раздавался треск обгорающих крыльев, мотылек падал на стол рядом с лампой и полз по клеенке, судорожно поводя толстыми белыми усиками.
— Бабушка, — спросил он, — когда я был очень маленький, где стояла моя кроватка?
— А вот где ты сейчас сидишь.
— Вот здесь, за печкой?
— Да.
Это не совпадало с тем, что он вообразил. Лампу зажигали там, в первой комнате. Он был сбит с толку, огорчен, раздосадован.
— А вы ставили возле меня керосиновую лампу?
— Нет, — подумав, сказала бабушка. — Тебя укладывали рано. Лампу я зажигала на обеденном столе. Ты уже спал, а у нас еще была стирка, или варили на завтра, или подтапливали на ночь, дел всегда хватало. И всегда заходили люди на огонек, ты не помнишь, заходил Гриша, заходила Ксения, она умерла в сорок втором, конечно, она была старая, но умерла от голода, больше ни от чего. Ты ее не помнишь?
Нет, он не помнил Ксению.
— И вы никогда-никогда не заносили ко мне лампу?
— Могло быть, когда ты болел. Однажды мы купали тебя зимой, боялись застудить, ты был совсем крошечка, по-моему, это было еще до войны…
До войны! Он заволновался.
— …Купали тебя у самой печки, а ты все равно простыл, не повезло, и у тебя заболело ухо. Ты кричал и плакал всю ночь, и мы всю ночь сидели возле тебя. Нет, не ухо. У тебя было подозрение на дифтерит, и оно оправдалось, и мама несколько раз за ночь приходила поглядеть в твое горлышко. Конечно, мы приносили лампу, иначе как можно было глядеть?
«Вот оно что! — с волнением подумал мальчик. — Это и было: они входили в комнату, бабушка держала лампу и двигала, чтобы маме было удобней глядеть на мой дифтерит, и тени метались по стенам, просто я спутал комнаты».
— Сколько мне было тогда?
— Сколько тебе могло быть? Годика два, а то и меньше, да ты этого не помнишь.
— Нет, я помню! — с гордостью сказал я. — Я помню!
После этого он с особым чувством занимал свое любимое место между печью и письменным столом: он возвращался в пространство, где вспомнил себя впервые. Оттого, верно, этот уголок и стал любимым. И когда он забивается в него с книжкой или кем-нибудь обиженный, это он хочет снова стать маленьким. Ему по-прежнему не нравились взрослые. У мужчин выпадают волосы на голове — как это некрасиво. А вставные зубы? Ф-фу. Особенно возмущало его, что из худеньких, тонконогих девчонок, в которых — чуть ли не во всех подряд — он так быстро и безнадежно влюблялся, получаются потом тетки с большими животами и толстыми икрами. Он не хотел становиться взрослым, но при этом нетерпеливейше ждал, что его жизнь когда-нибудь переменится.
А если ждешь, значит идет время, и становишься старше. Сначала станешь парнем, как Петька или Галиуля, а потом и вовсе взрослым, как отец, как паровозный машинист, как экспедитор молокозавода Мотовилов, по вечерам куривший папиросу за папиросой, сидя на корточках в коридоре, у приотворенной дверцы топящейся печи. О чем он думал ночами, меж тем как дым его папирос, вырываясь сизой бурливой струйкой из округленных губ, утягивался в печь и экспедитор провожал его таким заинтересованным взглядом, словно проводил важный научный опыт? О чем они думают, взрослые люди, говорящие чаще всего о продуктах и промтоварах, о карточках, очередях, работе, своих и чужих болезнях? И что за интерес им продолжать жить, если они уже ни во что не играют, редко читают книги и — наверняка — не влюбляются, да и как они могут нравиться друг другу, такие старые, в морщинах, постоянно чем-то озабоченные, сердитые, с громкими грубыми голосами, небрежно одетые, мужчины с тесемками кальсон, мелькающими под брючинами, женщины со спущенными чулками — как они все некрасивы, эти взрослые! Все, кроме его мамы, мама — особенная, вот бы встретить девочку, похожую на маму!.. Но таких во дворе не было.
Ждешь чудес, а кончится тем, что станешь взрослым. Одно без другого не бывает, а ему хотелось именно одного без другого. Ему, черт возьми, нравилось быть именно мальчиком, худеньким, с крепкой гладкой кожей, под которой он с удовольствием нащупывал узенькие жесткие мускулы, мальчиком, умеющим быстро бегать, гонять на велосипеде, съезжать с горок на лыжах, играть в футбол. Когда он стоял на воротах и в них летел мяч, а он прыгал и отбивал его кулаком, и падал, и нарочно делал еще кувырок в теплой пыли, а кто-нибудь одобрительно выкрикивал: «Вратарь Хомка делает съемку!» (Хомка — от Хомича, знаменитого на всю страну вратаря), его распирало от счастья. Однажды после такого кувырка он вскочил, первым догнал мяч, повел его к чужим воротам и так удачно ударил, не задрав мяча, а послав его настильно, по дуге, что ему потом это стало сниться, снился беззвучный во сне удар и как мяч рядом с замызганной чьей-то фуражкой, обозначающей штангу, чиркает по земле и влетает в ворота. Свои тогда завопили от восторга, а те, с Тургеневской, возмущались: «Влатарь не имеет права», а в ответ их назвали «хлыздами», и все кончилось небольшой дракой. Вот в такие минуты он вскользь, мимолетно думал: как хорошо, что он еще не взрослый. Это чаще бывало летом, в игре, в беготне, под крики вечернего двора, когда мяч взмывал над дровяниками и заборами и долго-долго летел, черный на красном заходящем солнце.
Читать дальше