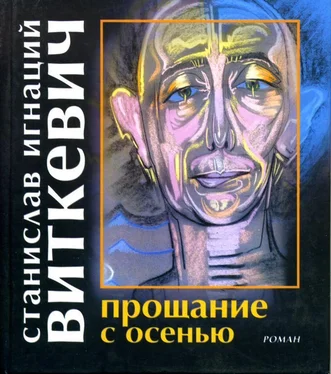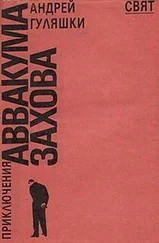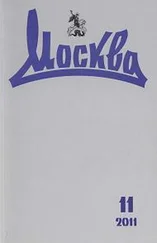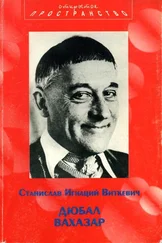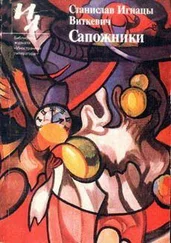Геля задумалась, обхватив ноги за коленками. Ее белые ладони судорожно сжимались и разжимались, как щупальца какого-то морского чудовища. В этот момент она была для себя воплощением мерзости телесного бытия каждого существа и той борьбы духа с плотью, которая иногда возвышает его над мерзким скопищем клеток, истекающим выделениями желез, темным внутри, кровавым, теплым и вонючим — словом, гадким, но в то же время единственным и неизбежным. Она испытывала отвращение к малейшему движению, к каждому высказыванию, даже ко всякой мысли. В лучшем случае — нирвана индийского факира: единственное, что смогло предотвратить наплыв этой липкой метафизической гадости, которой, чувствовала она, вымазана до самых кончиков своего существа. А кроме того и другие люди — эти воистину непостижимые, но такие порой близкие (брр!) и понятные инакополые, эти мужчины, копающиеся собой как раз в этом самом... Какая же это мерзость, пол! Покаяние становилось неизбежным. Но уже через мгновение она не чувствовала ничего, кроме до костей пробирающей холодной грусти и пустоты. Дальше была только смерть, к которой она столько раз доверчиво и смиренно обращалась и которая всегда с презрением ее отвергала. Со скрытой где-то на дне души верой в небытие она молилась на него уже с десятого года жизни, а может, и еще раньше, не веря в вечную жизнь духа, несмотря на безумную, дикую тоску по этой вере. «Смерть или жизнь на вершине», — говорила себе маленькая пятнадцатилетняя евреечка, вперив взгляд в бездонную тайну собственного бытия. Уже тогда через привычные события повседневности она смотрела на себя и на все как на отблеск чего-то непостижимого, страшного. Но Небытие, словно сверкающий непробиваемый панцирь, отражало ее грезы, показывая на своей гладкой поверхности, блистающей совершенной пустотой, ее собственное непонятное изображение и далекие миражи протекавшей где-то рядом жизни. И тогда, подобно сумрачному и «радужноперому» стервятнику (так она называла его), на ее душу упал истинный властелин ее детства, Шопенгауэр. И она долго блуждала мыслью в его великолепной метафизике, как в каком-то громадном здании из таинственного сна. Впрочем, здание это было пустым, хоть и прекрасным, в нем были большие и светлые покои и уютные закуточки и даже недоступные башни и неисследованные подземелья, и она не успевала заполнить его своей внутренней жизнью. Хотя это здание где-то там еще существовало, оно превратилось в руины, как и многие другие вещи из детских лет, начиная с игрушек и кончая «первыми и единственными Любовями». Утратив свою веру, она не пристала ни к брахманской метафизике, ни к буддистской этике. Некоторое время спустя пришел Кант и все «меню» современной дискурсивной философии. Все, что с ней обычно творилось, было несоизмеримо с величием того мира, в котором она жила мыслью и в отдаленном, неизвестном, замкнутом пространстве которого царила смерть. Эти воспоминания вызвали новые сомнения.
— Почему именно эта религия, а не другая? — вдруг начала она. Выпштык вздрогнул и вернулся к действительности. — Я знаю: существует иерархия, от тотемизма до Будды, но не должна ли я стать буддисткой, если эта религия, как вы когда-то сами, святой отец, признали, более всего похожа на единственную, чисто негативную истину, к которой устремлена вся философия?
— Именно поэтому ее следует отвергнуть. Это всего лишь нечто несовершенное. Религия не является несовершенной философией, она — нечто само в себе, не сравнимое ни с чем, даже с самым высоким.
— А все же это только исходное сырье, понятийная обработка которого дает дискурсивную философию.
— Сырье! — иронично воскликнул Выпштык. — Если мы признаем сырьем все, что не представляет из себя жалкую комбинацию понятий, то я не обижусь на этот эпитет и в отношении религии, но тогда в эту категорию переходят вообще все чувства, то есть вся непосредственная жизнь. Нет, дочь моя, то, о чем ты так презрительно говоришь, есть сущность индивидуальных бытований: религиозные чувства везде одни и те же, а из них, в зависимости от силы откровений, заслуженных добродетелью, вырастает, как цветок из луковицы, система каждого конкретного культа. Сами по себе понятия и их системы — это всего лишь надстройка...
— Так, значит, религиозные чувства должны быть уже у животных?
— Да, говорю тебе определенно: ими в разной степени наделены все живые создания, но только мы, католики, понимаем и интерпретируем их адекватно. Религия является не понятийной их трактовкой, а символически-чувственной транспозицией на фоне истин, непосредственно данных в откровениях. Моя система в рамках моей Церкви не является каким-то модернизмом, ведущим через серию незначительных компромиссов вплоть до полного безверия и псевдонаучного материализма. Я расширяю веру, а не уничтожаю ее вроде тех, кто, якобы приспосабливая ее к результатам науки, губит ее суть. Наша вера не сразу была такой, какая она теперь, она формировалась постепенно! Я делюсь с тобой самыми сокровенными моими мыслями, я глубоко верю в творческую мощь католицизма. Нас ожидает великолепный расцвет, если только те, кому порой случайно, в силу попущения Божия, доводится стать носителями сущности нашей веры, не погубят эту самую мощную в мире конструкцию чувств. Я не говорю об этике, ибо знаю, что к этой теме ты невосприимчива, как дикобраз. Будучи знатоком душ, я знаю, что твоя этика не автономна, она проистекает из твоих высших, абсолютных, изначальных понятий. Только мы сможем удержать человечество от механизации и маразма.
Читать дальше