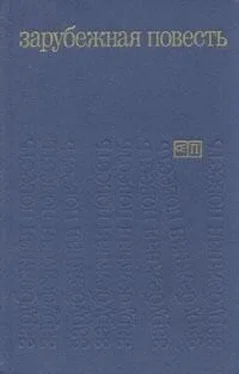...Торжествует, злорадствует, услаждается, ублажается, извлекает довольство и тому подобное, смакует, упивается, утоляет аппетиты, радуется, ликует, возвеселяется, смотрит именинницей, как сыр в масле катается, faisant ses choux gras, нежится на солнышке, ног под собой от радости не чует.
Из глубины воззвал я к Тебе, о Господи, Господи! Услышь голос мой.
Да внемлют уши Твои со вниманием гласу молений моих.
Если Ты, о Господи, станешь нам первым вменять наши проступки:
Господи, кто это выдержит?
О, дни младенчества! Душа
Сияла счастьем, в рай спеша.
Но после понял я, что тут
Назначен искус мне и труд,
И сердце отучил свое
Стремиться в вечное жилье [21] Из стихотворения Генри Воэна (1622—1695) «Прибежище».
.
— Дело в том, Уинифрида, что уж очень это было рискованно — передавать деньги переодетому семинаристу-иезуиту в женской уборной Селфриджа. Его могли арестовать за нарушение благопристойности. На этот раз вы, пожалуйста, измыслите что-нибудь понадежнее.
Аббатиса выпарывает маленькими ноженками, ниточку за ниточкой, изумруд в тонкой оправе из риз Пражского Младенца.
— Мне крайне огорчительно, — говорит аббатиса, — расходовать, тратить, расточать, разбазаривать, переводить, транжирить и пускать по ветру приданое наших сестер, да еще таким несуразным образом. Эти иезуиты — настоящие пиявки. Вот, возьмите. Заложите его в ломбард и договоритесь с отцами Бодуэном и Максимилианом, где им удобнее получить деньги. Только оставьте в покое женские уборные.
— Хорошо, мать аббатиса, — говорит Уинифрида и плаксиво добавляет: — Пусть бы со мной пошла сестра Милдред или сестра Вальбурга...
— Они же совершенно не в курсе, — говорит аббатиса.
— Да совершенно они в курсе, — говорит Уинифрида, дура безнадежная.
— Если на то пошло, так и я совершенно не в курсе, — говорит аббатиса. — Мне по сценарию не полагается. Сказать вам, Уинифрида, о чем я думаю?
— О чем, мать аббатиса?
— Вот о чем, — говорит аббатиса:
И так тоскливо мне среди чужих:
ну да, я знаю: люди кругом, дружелюбные лица,
но мне среди чужих тоскливо.
— Понятно, мать аббатиса, — говорит Уинифрида. Она делает глубокий реверанс и готова уже удалиться, но к ее плечу белой голубкой вспархивает рука аббатисы.
— Уинифрида, — говорит она, — погодите уходить, мало ли что может случиться. На всякий случай, чтоб как-нибудь не пострадала репутация аббатства, подпишите-ка покаяние.
— Какое покаяние? — говорит Уинифрида, и ее статная фигура напряженно замирает.
— Самое обыкновенное покаяние.
Аббатиса подзывает ее к столику, на котором лежит прекрасный лист гербовой монастырской бумаги с машинописным текстом, и протягивает перо.
— Подпишите, — говорит она.
— А можно прочесть? — скулит Уинифрида, и бумага вздрагивает в ее полных руках.
— Это самое обыкновенное покаяние. Но если вы сомневаетесь, читайте, читайте на здоровье.
Уинифрида читает машинописный текст:
«Исповедую Господу Всемогущему, блаженной приснодеве Марии, блаженному Михаилу архангелу, блаженному Иоанну Крестителю, святым апостолам Петру и Павлу и всем святым свои грехи, ибо я грешна неизбывно помышлением, словом и деянием, по своей вине, по своей вине, по своей тягчайшей вине».
— Подписывайте, — говорит аббатиса. — Только имя и занятие.
— Как-то это уж очень меня компрометирует, — говорит Уинифрида.
— Ну знаете ли, — говорит аббатиса, — вы всю жизнь ежеутренне повторяли эти слова во время мессы, и мне страшно даже подумать, что вы столько лет лицемерили и каялись лишь на словах. Сотни миллионов мирян еженедельно приносят это тяжкое покаяние пред алтарем. — Она вкладывает перо в робкую руку Уинифриды. — Да и сам папа, — говорит аббатиса, — ежеутренне смиренно свидетельствует о том же: он открыто признает, что неизбывно грешен по собственной тягчайшей вине. Причетник говорит ему на это: «Помилуй тебя Господь Всемогущий». И по-моему, Уинифрида, что не зазорно римскому первосвященнику, то и вам не слишком зазорно. Или вы полагаете, что он каждое утро лицемерит пред Богом и людьми?
Уинифрида берет перо и расписывается под покаянием: «Уинифрида, орденская монахиня аббатства Круского» — крупным, косым, каллиграфическим почерком. Она ощупывает изумруд в глубоком кармане рясы — он там, все в порядке — и перед самым уходом робко оглядывается с порога приемной. Аббатиса стоит и всматривается в текст покаяния, ослепительно белая в дневном свете ламп и суровая, как блаженный архангел Михаил.
Читать дальше