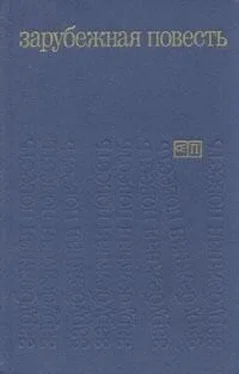— Только не в моем аббатстве, — говорит аббатиса. — Мои монахини выше подозрений. Кроме Фелицаты и Батильдис, которых выдворили. Фелицату, кстати, еще и отлучили. Я не потерплю, чтоб говорили, будто у меня такие общедоступные монахини, что юнцы-иезуиты входят в наши врата с известными намерениями.
— Они вошли через садовую калитку, — рассеянно поправляет Милдред, — которую Вальбурга отперла для отца Бодуэна.
— Это вы так пошутили, — говорит аббатиса, указывая на Пражского Младенца, вместилище самого мощного микрофона в приемной.
— Не беспокойтесь, — говорит Вальбурга, обращая к Пражскому Младенцу широкую улыбку на суровом продолговатом лице.
— О микрофонах никто, кроме нас, не знает, а Уинифрида, бестолочь, мало что понимает. Не беспокойтесь.
— Меня беспокоит Фелицата, — говорит Милдред. — Вдруг она догадается.
Вальбурга говорит:
— Ей всего-навсего известно, что наша электронная лаборатория с ее обслугой обеспечивает контакты с новыми миссиями, которые по всему свету основывает Гертруда. Сверх этого она ничего не знает. Так что не беспокойтесь.
— Не надо меня успокаивать, — говорит аббатиса, — потому что я и так никогда ни о чем не беспокоюсь. Беспокойство — удел мещан и больших художников в те часы, когда они не спят и не творят. Аристократам духа беспокойство чуждо, равно как, вероятно, и голодающим на пороге голодной смерти. Не знаю почему, но я все время размышляю о голоде и голодающих. Сестры, слушайте секрет. По мне, лучше иссохши от голода сгинуть в какой-нибудь африканской или индийской пустыне, смешаться с сухой землей среди издыхающих скелетов, чем пойти к психиатру, как, я сегодня слышала, пошла Фелицата, лечиться от душевного беспокойства.
— А она пошла к психиатру? — говорит Вальбурга.
— Бедняжка, у нее пропал серебряный наперсточек, — говорит Александра. — Во всяком случае, она объявила по телевизору, что залечивает психическую травму, вызванную отлучением от церкви из-за греховной связи с Томасом.
— А что тут может поделать психиатр? — интересуется Милдред. — Ее же нельзя доотлучить или разотлучить.
— Ей надо примириться с мыслью об отлучении, — говорит аббатиса. — Так объясняет дело сама Фелицата. Еще много было всякого пустозвонства, но я выключила телевизор.
Колокол звонит к вечерне. Аббатиса с улыбкой встает и возглавляет троицу.
— Трудно не тревожиться, — говорит Милдред, проходя в дверь вслед за Вальбургой, — когда в миру о нас идет такая молва.
Аббатиса приостанавливается.
— Крепитесь! — говорит она. — Крепкие духом знают, что благодатью, негаданно ниспосланной, победится всякая тревога. С тем вы и возносите псалмы; возношу и я — часто, правда, переходя на английскую поэзию, ибо к ней лежит мое сердце. Сестры, бдите: у каждого свой источник благодати.
Место Фелицаты пустует; Уинифриды тоже нет. Совершается вечерня, и в стенах аббатства царит покой: на исходе последнее мирное воскресенье этой осени. В среду на будущей неделе монастырь будет патрулировать полиция, днем так, а ночью с собаками, за ней пресса, фотографы и телерепортеры станут ходить, яко лев, рыкая, иский кого поглотити.
— Сестры, трезвитеся, бодрствуйте.
— Аминь.
Снаружи тишь, и шелестят деревья; это последнее октябрьское, последнее спокойное воскресенье.
Счастлив человек щедрый и милостивый, который поступает по справедливости.
Он вовек не поколеблется: в вечной памяти будет праведник.
Он не убоится скорбных вестей: сердце его твердо, уповая на Господа.
Холодный чистый воздух часовни полнят приливы и отливы грегорианской музыки, истинные голоса сестер, отработанные ежедневной практикой под руководством регентши. Все в сборе, кроме Фелицаты и Уинифриды. Аббатиса в свежайшем облачении стоит перед своим креслом, внимая повышениям и понижениям антифонов.
Блаженны миротворцы, блаженны чистые сердцем: ибо они Бога узрят.
Недвижна, как обелиск, стоит пред ними Александра, глядя на дело рук своих и рук аббатисы Гильдегарды прежде нее; и видит, что это хорошо, и готова об этом свидетельствовать. Губы ее шевелятся невпопад, как в дублированном фильме:
Когда же, покой, как голубь лесной, робкие крылья сложив,
Перестанешь, кружа, ускользать и впорхнешь под ветви мои?
Когда же, когда, о покой? Лицемерить не буду,
Сердце не обмануть: ты нисходишь порой, о покой: однако ж
Частичный покой непокоен. И разве чистый покой
Стерпит распри и страх, тревоги, и скорби, и смерть? [20] Стихотворение английского поэта-иезуита Дж. М. Хопкинса (1844—1889) «Мир».
Читать дальше