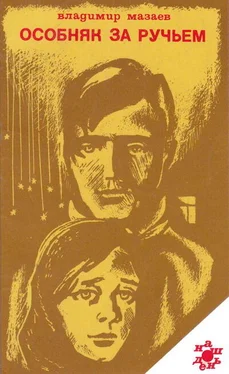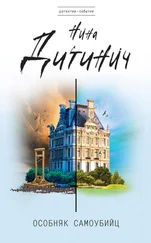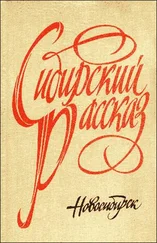Потом они бегут через темный безлюдный поселок, утонувший в вихрящемся снеге, потом долго стучат в двери общежития — простого бревенчатого дома, каких много в поселке.
Им наконец открывают, и Лена входит в дом, оставив Русина на улице. Минут через пять, которые кажутся ему часом, появляется Илья. Русин бросается к нему, но Илья, закурив, молча скрывается в дверях.
Русин уже теряет надежду и решает войти в дом, но раздается голос Лены, за ним тяжелый топот ног, и на крыльцо выходят сразу трое — Лена, Илья и высокий парень. По-видимому, это и есть Степан Молибога.
— Русин! — зовет торопливо Лена, сбегая со ступенек. — Степа спрашивает, разрешил ли начальник? Я сказала, что разрешил, а то как же? Я правильно сказала?
— Конечно, разрешил, — уверенно говорит Русин и, поддаваясь ее интонациям, невольно добавляет: — А то как же? — и сам удивляется, как это у него убедительно прозвучало.
Рыча и погромыхивая, самоходка катит по запорошенной снегом дороге. Фары в металлических решетках бросают далеко вперед два кинжальных луча. Метель уже затихает, редкие снежинки, залетая в свет, вспыхивают, точно крошечные метеоры.
Русин стоит на ребристом крыле, держась за борт, и в лицо ему бьет ветер. Самоходка легко и быстро берет подъемы и на ухабах покачивается, как лодка на поперечной волне.
Русин наклоняется к водителю, видит на щеке шрам. Перекрикивая грохот, он кричит:
— Слушай, Степан, ты на фронте был?
Тот машет головой.
— Ни. А що?
Русин смеется:
— Мне кажется, что мы на танке мчимся!
— Та цэ и е танк. Тэ тридцать чотыре. Тильки без башни и пулэметив. Дэмобилизованний!
— Ого! А что он у вас делает — демобилизованный?
— Бурыльную установку тягае.
Дорога резко сворачивает, ели уплывают куда-то вниз, и далеко впереди проступает реденькая подковка огней. «Ждут!» Русина вдруг охватывает радость. Словно не было позади холодных ночей в карьере, горьких минут беспомощности и отчаяния; словно только и существовало вот это стремительное движение вперед, да ветер в лицо, да это мужественное гудение брони под ладонью.
К карьеру взбирается последний самосвал. Шофер в рыжем кожане подгоняет машину под эстакаду, выпрыгивает из кабины, привычно лязгнув дверцей.
— Черт тупорылый! — ругается он, обходя машину. — Вот наградил бог силушкой — чуть было передок не выхватил.
Он задирает голову, долго смотрит на эстакаду.
— Техника на грани фантастики! — В голосе его, однако, звучит удовлетворение. — Эй, друг ситный! — кричит он бульдозеристу. — Гляди, притормаживай. А то возьмешь ненароком вторую космическую и улетишь с этого трамплина к едрене-фене!
Потом подходит к сидящему у костра Русину, неожиданно протягивает руку:
— Привет местному начальству! Греемся?
— Да так, маленько, — отвечает Русин, смущенный его рукопожатием.
— Лучше летом у костра, чем зимой на солнышке, так что ли? — Шофер вытаскивает из кармана бутылку кефира, разворачивает бумажный сверток, присаживается рядом. — Закусим? Прошу.
— Спасибо, — говорит Русин и берет маленький ломтик колбасы.
С минуту они оба жуют молча, сосредоточенно.
— Работаешь-то ты ничего, — замечает шофер, — а вот ешь слабовато, не по-нашему. Бери больше, рубай. Я ежели не поем, ехать не могу: нервы вибрируют. Тебя как зовут-то?
— Русин.
— Русин? Чудное имя. Никогда не слыхал. А меня Евгений. Женька попросту. Вот и познакомились.
В поселок Русин возвращался на рассвете. Выпавший за ночь снег, прибитый ветром, мягко хрустел под ногами. Русин покосился на темные окна конторы: ему ведь еще предстоит неприятное объяснение с Власенко за самоходку…
У дома он замедлил шаги. На нижней ступеньке крыльца рядком лежали забытые меховые перчатки. Снег вокруг крыльца был изрядно потоптан… Русин усмехнулся, поднял перчатки. Занес их в дом и положил на видное место. Он вдруг представил себе Лену, ее разгоряченное лицо, когда они пилили вместе дрова, и представил рядом себя в роли молодого хозяина, неловкого, но старательного, и сразу почувствовал фальшь во всем этом и какую-то почти детскую обиду — на кого? За что?
Вспомнил он, как в первый еще вечер Лена зашла к нему в рубашке и он, подумав бог знает что, готов был протянуть к ней руку; и теперь ему было неловко — и за те свои ощущения, и за мысли, с которыми он долго тогда не мог уснуть.
Войдя в свою комнату, он сел на табурет и, уже не в силах встать, принялся сидя стаскивать с себя одежду.
Читать дальше