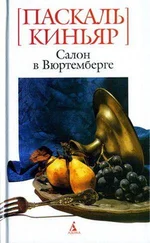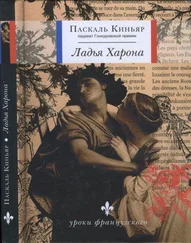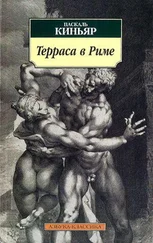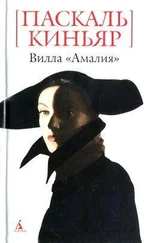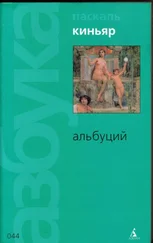– А об этом и вовсе не может быть речи, месье. Тыканье уместно при скандалах, при уличной ругани, когда водители поносят друг друга через открытое окно машины; при домашних сценах, когда супруги ссорятся, раздеваясь и моясь перед сном; в тюрьмах и школах, для унижения арестантов и детишек-учеников, самых маленьких…
– Пьер, я должен вам сказать, что в полной мере оценил ваше заступничество за самых маленьких. Иисус говорил, что в Царствие Небесное войдут лишь малые сии, те, кто не выше пятидесяти сантиметров ростом.
– Мало призванных, мало избранных.
– Да не мало, а вовсе нет избранных, разве что девочки до шести лет и мальчики до восьми. Рай ведь очень тесен.
– Размером с прикроватный коврик.
– Нет, размером с обувную коробку.
– Месье все-таки мыслит крупными категориями. Не с обувную коробку, а со спичечный коробок.
– Вся наша вселенная помещается между ногтем и мякотью Господнего мизинца.
– Увы, месье имеет в виду мизинец на левой руке.
Беседа происходила вечером, в доме Пьера Моренторфа, за скромным и необычным ужином. Пьер Моренторф похудел на двадцать килограммов. Днем прошел дождь, и вечер был довольно прохладный. Эдуард попросил у хозяина одеяло. Пьер принес ему шотландский плед в желтую клетку, этот цвет отличался странным, ядовитым оттенком.
Пьер поставил на кухонный стол сосну с искривленным, словно его согнул неподвижный ветер, стволом и тремя ветками, расположенными одна над другой; деревце росло в крохотном розовом вазоне с рельефными стенками. Высота сосны не превышала шестидесяти сантиметров. Моренторф размышлял вслух:
– Ее согнул очень древний ветер, – говорил он медленно, – ураганный ветер, который дул всего несколько секунд, два тысячелетия и три века тому назад.
– Два тысячелетия, три века, четыре месяца и, мне кажется, еще одну неделю.
– Два тысячелетия, три века, четыре месяца и неделю назад, в семнадцать часов тридцать минут.
У Эдуарда Фурфоза застыли кончики пальцев.
На набережной Лунготевере Пратичи было шумно, душно и мрачно. Машины обгоняли его или громко, назойливо сигналили сзади. Он глядел на лениво текущий, почти неподвижный Тибр. Остановил машину. Гудки за спиной слились в сплошной рев. Он взглянул на серый, занесенный песком берег. Чья-то лодка догнивала на желтом мелководье.
Он опустил стекло машины. Ему предстояло встретиться с Лоранс в ее доме в департаменте Вар. Он посмотрел на пластиковые бутылки, на дохлых рыбешек, на черный, изъеденный плесенью женский сапожок. Подумал сперва о Франческе, которая наконец-то подписала в Риме договор и внесла задаток, потом о Лоранс, которая ждала его в доме над Сан-Рафаэлем, о тетушке Отти, уединившейся в своем шамборском домике Наполеона III, о Розе ван Вейден, которую не видел с самого Киквилля, о маленькой Адриане в венсеннском зоопарке, которая потом с важным видом писала в воздухе воображаемые послания гамадрилу.
Он еще раз взглянул на желтую воду Тибра и на тот черный сапожок у самой кромки желтой воды. Распрямил пальцы, взглянул на них в свете дня. И, поднимая стекло машины, сказал сам себе, шепотом: «Да, все мы – ошибки. Осколки ошибок, блуждающие среди великих призраков и детских игрушек. Всякий пол, взятый отдельно, – всего лишь очень старая изломанная игрушка. И даже солнечный свет – всего лишь разновидность тени».
Жизнь для него – такой же тяжкий груз, как муравью крыло пчелы умершей, которое он тащит на себе.
Унгаретти [64]
– Легкие уже ни к черту не годятся.
Луи Шемен закашлялся, произнося эти слова в трубку. Но боль обрушилась на нее только через два часа после этого разговора; горе было так остро, что ей пришлось сесть. Она поднялась к себе в спальню. Лоранс находилась в доме, которым она владела в департаменте Вар, над Сан-Рафаэлем. У ее отца обнаружили рак легких. Он собирался прожить в Солони все лето. Самое странное, что он запретил ей ехать в Лозанну, приказал ни слова не говорить матери. Он решил, что об этом должна знать она одна. Он надеялся, что об этом будет знать только она. И еще он не хотел, чтобы она приезжала к нему. Она оставила с ним Мюриэль. Он торжественно обещал, что позовет ее, когда придет время. Но она не хотела, чтобы он позвал. Не хотела приезжать. Не хотела допустить даже возможность мысли о смерти своего отца – для себя, для кого бы то ни было в мире.
Эдуарда с ней не было. Все мужчины покидали ее. Все мужчины обманывали ее. Солнце несло с собой рак: Лоранс чувствовала, как он мало-помалу завладевав ее кожей. Никогда больше она не выйдет на солнечный свет. Что ни день, силуэт Лоранс Гено растворялся в тени деревьев, в полумраке комнат.
Читать дальше