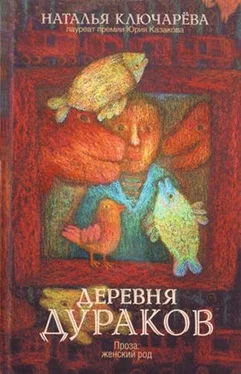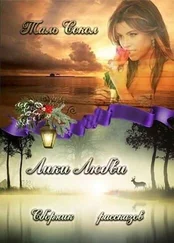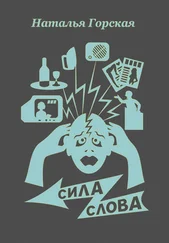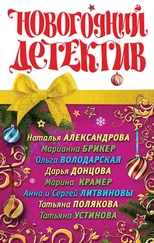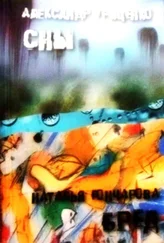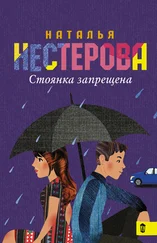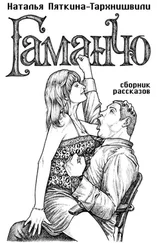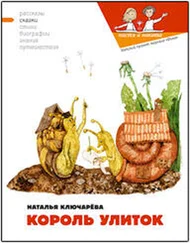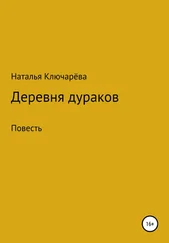Княгиня Ольга Волконская приехала в СССР из Аргентины в глухие брежневские времена, потому что в Латинской Америке, куда она когда-то эмигрировала из оккупированного Парижа, стало совсем плохо и одиноко. А в Перми жила то ли ее родственница, то ли бывшая прислуга.
Княгиня Ольга, чтобы хоть как-то прокормиться, стала писать рассказы и воспоминания, и ее приняли в Пермский союз писателей. Несмотря на это, Волконская жила в крайней нищете и ходила всегда в одной и той же заштопанной кофте и застиранной юбке. Другой одежды у княгини просто не было.
Вскоре ей исполнилось 80. И в Союзе писателей решили устроить ее творческий вечер. Маме было тогда лет 25, она работала в книжном издательстве, находившемся в том же здании, что и Союз, была большая модница и регулярно получала выговоры в обкоме за ношение первых в городе джинсов, купленных у контрабандистов на пустыре у советско-румынской границы. И вот накануне юбилея Волконской маму вызвал председатель Союза писателей, вполне себе советский чиновник, и, смущаясь, пробормотал: «У меня к тебе деликатное поручение. Вот деньги. Завтра у Волконской вечер. Ты понимаешь, что в таком виде… В общем, надо ее одеть».
Больше он ей ничего не сказал, кроме размера ноги княгини. И мама, отпросившись с работы, побежала по магазинам, в которых, разумеется, не было вообще ничего. Тогда она пробилась в кабинет к заведующей складом и рассказала душераздирающую историю про нищую старушку-писательницу, которой не в чем пойти на собственный творческий вечер. Завскладом растрогалась и повела маму в тайные подвалы «для своих», где кое-что все-таки можно было найти.
Вечер прошел на ура, темно-вишневый костюм, купленный вслепую, отлично сидел и очень шел черноглазой княгине. Потом Волконская специально приходила в издательство, обнимала и благодарила маму, по-девичьи шепча ей на ухо: «Как же вы и насчет белья-то догадались?»
Так моя мама, происходящая по бабушке из крестьянского, а по деду – из поповского сословия, однажды одевала княгиню Волконскую.
В России разрыв между прошлым и настоящим не просто велик, но еще и затянут непроглядным туманом, в который, впрочем, почти никто и не вглядывается. У нас не принято оглядываться, как в сказке, ставшей былью, – живем без оглядки, топчемся на граблях, блуждаем в трех соснах.
Сложно сказать (в тумане не видно), с чего это началось. С большевиков ли, вырвавших с корнем всё, что было до них, и запретивших помнить. Или раньше. Мне кажется, что раньше, ведь и красные комиссары, как бы им того ни хотелось, выросли не на пустом месте. И административно-командное обрезание памяти так легко удалось лишь потому, что было выражением подспудных желаний всего народа.
Точнее, не желаний – а их отсутствия: лени, сонливости, расслабленности и дряблости духа. Ведь помнить – трудно, память – это труд. Гораздо легче забыть, заспать, застроить новыми домами, заселить новыми людьми – без роду, без племени, без почвы под ногами.
Не знаю, с чего началась и давно ли: с монголов, дурных царей, крепостного права – эта обреченная усталость от жизни, рассеянность, тупость, сивушное забытье. Но я точно знаю, что в реестре мертвых душ всегда находилась хоть одна живая, в селе – праведник, среди убогих – богатырь. На каждого балбеса и лоботряса – суровый пахарь, корчевавший вековые пни.
И общее рыхлое безволие всегда, как мускулами, было пронизано волей одиночек, тянувших, припадая к земле, весь огромный корабль-Россию. Но потом (когда?) что-то случилось, что-то в них надорвалось, рассохлось. И в эту брешь хлынули комиссары, живо перестрелявшие и праведников, и богатырей, и пахарей, оставив только бездомных, бедных, горьких, не помнящих родства и не имущих сраму. С мертвыми душами и веками, отяжелевшими от сна.
Наверное, со временем (когда?) баланс восстановится. Родятся и впрягутся в бечеву новые живые люди. И будут трудиться, помнить, созидать. Сопротивляться забвению. Врастать в землю. Вглядываться в непроглядный туман. Да что там. Они уже есть, эти люди. Только их еще слишком мало, чтобы сдвинуть корабль с мели.
Летопись, написанная детьми
Чтобы от истории был хоть какой-то толк, надо научиться ее помнить. Не даты съездов и фамилии генсеков, не безопасные гладкие термины: монетизация, приватизация, экспроприация, – за которыми так просто теряется живой человек, а ее рядовых участников. Каждого – лично. В лицо.
Надо вернуть истории человеческое измерение. Человеческое лицо, которое было и у социализма, и у тоталитаризма – у всех «измов». Неповторимое, «частное» лицо. Лицо, искаженное болью и страхом, намеренной ложью и искренней верой в ложь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу