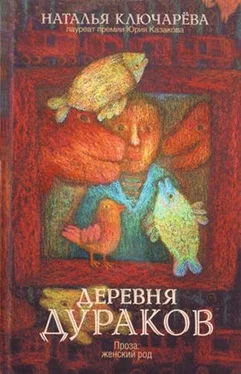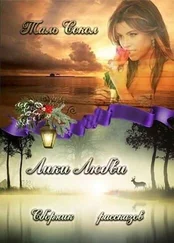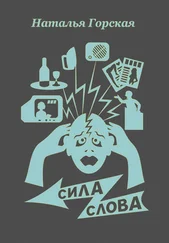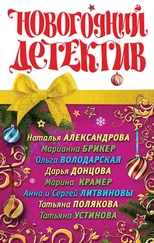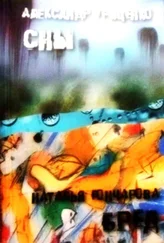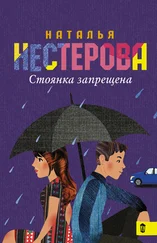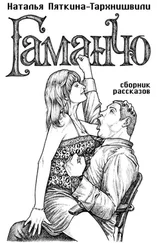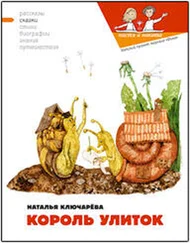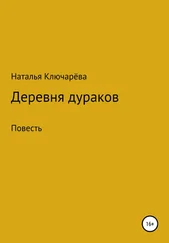После отказа хозяина пилорамы Худынцев не оставил своих попыток помочь детям. И вскоре обнаружил недалеко от Вохмы швейцарскую фирму по заготовке леса. Деревоплитой, которую он раздобыл у иностранцев, отремонтировали и интернат, и школу.
Еще Худынцеву удалось зазвать в Вохму двух американских волонтерок, которые денег не дали, но зато целое лето совершенно бескорыстно учили интернатских детей играть на скрипке.
– Я смотрел на них и думал: почему мы-то не можем любить собственных детей? – удивляется Худынцев. – Кто из них без любви вырастет? Я видел, как они дерутся. Эти дети никогда не плачут. Слезы текут, а они не плачут, понимаете? Сжимают кулаки и прут напролом. Это наше будущее. Страшное, безжалостное.
Но все-таки именно они, эти «дети, которые никогда не плачут», своими руками посадили на окраине Вохмы яблоневый сад в память погибших в Беслане. Не по учительской указке, а по собственному порыву.
Туда нас тоже сводил ветеринар Худынцев. Яблони пока еще не выросли, и на месте будущего сада пожилые воспитательницы копают безотказную картошку.
Возвращаясь, мы вновь видим знак, указывающий дорогу в Рай. И опять проезжаем мимо. В каком-то безотчетном смущении. Потому что ясно: пути туда пока нет. Только направление.
Шамбала Кологривского уезда
Владения языческой богини Костромы. Дремучее нутро Русской равнины. Сказочные взлохмаченные леса. Имена рек – голос растворившихся без следа древних мерян.
Бездорожное и безразмерное пространство раскручивается перед тобой как клубок: кажется – всё на ладони, рукой подать, а тронешься в путь – и целый день едешь, недоумевая, откуда оно берется, это неуклонно нарастающее расстояние.
Костромская земля – первый подступ к бесконечности, наша ближняя – пять часов от Москвы – бездна. Более родная нам, чем огромная Сибирь и титанический Урал, где русский человек до сих пор не житель, а поселенец.
Автовокзал в Костроме. Обманчивый в своей обыденности. И уже знаешь эту ловушку, этот неприметный капкан внутриобластных маршрутов, которые тянутся много дальше междугородних, но вновь и вновь даешь себя заманить.
Расписание – как «Повесть временных лет»:
«Галич, Солигалич, Судиславль, Чухлома…»
Растворимый кофе в буфете – словно снадобье, переносящее в другую складку мира.
Человек в резиновом плаще с островерхим капюшоном вздыхает за соседней стойкой:
«Шабашил раньше. То муху продам, то червя. А теперь некому продавать – все в могилах. Ни червя, ни мухи…»
За слепым стеклом автобуса – брезжит рассвет. А выберешься оттуда лишь в сумерках.
И первое, что увидишь при въезде в Кологрив, – глиняную церковь в половину человеческого роста. Всё как полагается: купол, приделы, даже колокольня – только маленькое.
Попутчики, с которыми уже сроднился, наперебой объясняют, что храм вылепил мальчишка из соседней деревни:
«Нет, обыкновенный мальчишка».
«Да, своими руками».
«Как зачем? Душа просила».
Еще в Кологриве есть несостоявшийся железнодорожный вокзал – рельсы в итоге легли в сотне километров отсюда. Правда, злословят, что местный купец отгрохал этот особняк вовсе не для пассажиров, а для своих многочисленных жен.
Теперь в кирпичном дворце – Кологривский краеведческий музей. С непременным чучелом лося и битой утварью каменного века.
Смотрительница плавает за тобой по пятам, как тяжелая сонная рыба. Ее отсутствующее лицо отражается во всех витринах, куда ты заглядываешь.
А вот и тот самый пиджак с разноцветными заплатками. Висит на стене, на аккуратных деревянных плечиках. Так и подмывает пожать пустой рукав: «Здравствуй, Ефим!» – но бдительная рыба не дает даже поднять руку.
Ефим Честняков родился в конце XIX века. В деревне Шаблово Кологривского уезда.
Его первые краски – тертые цветные камушки из реки Унжи.
Родители – простые крестьяне – художества почитали за блажь. Учиться Ефим сбежал против их воли.
Сначала получил звание народного учителя. Шесть лет проработал в сельских школах и даже в училище для малолетних преступников.
А потом не выдержал – и рванул в Петербург: учиться на художника. Поступил в ученики к самому Репину. Но тот быстро сообразил, в чем дело. И учить Ефима отказался: чтоб не испортить.
В Петербурге сделана единственная фотография Ефима. Крупное лицо грубой крестьянской лепки, но при этом удивительно нежное, стыдливое.
В 1914-м он навсегда вернулся в Шаблово. Под негласный надзор полиции – за участие в демонстрациях. От политики Ефим был бесконечно далек – он лишь искал справедливости, всеобщего благоденствия, пробуждения народной души, дремлющей в обмороке тяжелого труда. Поэтому его путь, лежавший совсем в других пределах, мог ненадолго пересечься и с движением революционных масс. Однако Ефим был очень кратковременный попутчик. В Шаблово он уже загадывал о большевиках такую загадку: «Тверды как сталь и злы как вошь, ничем их душу не проймешь». И распевал рискованную частушку:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу