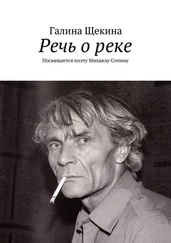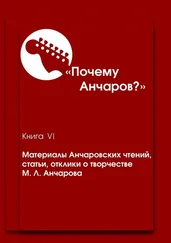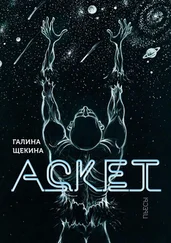После засыпания детей загудел компьютер. Прошлое оживало и лавиной сыпалось на мелькающие в мониторе страницы. Латыпов, арабский принц, полетел с горы прямо в яму на кабана. Ларичева полетела на автобусе спасать его от жестоких физических и сердечных мук. Потому что она ничего не могла сделать — тогда. Могла — только теперь, и то в воображении. Отличник и гордость факультета, ослепленный своей девочкой с вишневым ртом — тогда, становился мудрее и тоньше — теперь. Он уже понимал отчаянную Ларичеву, жалел, что не она его судьба и целовал ее прощальным и неверным поцелуем…
“Он скрипел зубами и метался, весь мокрый от пота. Не успела я подать ему лекарства — анальгины, ампициллины и прочую горечь — как он тут же стал рвать зубами упаковки. Я намочила вафельное полотенце и положила ему на лоб. Он взял и прижал к себе мои ладони вместе с полотенцем сильно-сильно. Бедный Нурали, продолбят тебе голову когда-нибудь. А на часы лучше не смотреть, и на зачет придется идти со вторым потоком…
— Ты у нас самый сильный, — дрожащим голосом говорила я, — и не стони, пройдет все. Ведь ты сильный, умный, ты Ленинский стипендиат, это много значит…
— У Киры был любовник, которого посадили. Так? Или нельзя про это? Молчишь, значит, знаешь. Ну, что тут может быть? Чем антисоветсчик лучше простого студента? Тем, что сидит в тюрьме. О, на женщин это действует. Не спорю, она хоть и моложе, но прожила до меня длинную жизнь. Что я такое перед ней? Технарь, собиральщик. А в ней все непостижимо, гармония бешеная, она и сама не понимает… А я ничего не понимаю.
— Да все ты знаешь, — всхлипнула я, — ты море стихов знаешь, тебя весь курс боготворит, ты вечный капитан КВНа, препы тебя ценят и автоматы ставят. Просто у тебя температура и надо врача вызвать, а ты не даешь.
— Еще чего. Врач упрячет в больницу на две недели, а я сессию завалю… Знаешь… — Он попил из чайника, хотел вернуться на койку, но промазал и сел на пол.
— Знаешь, может, я ошибся с ней капитально. Может, с тобой бы я бы как у Христа за пазухой, ты жизнь отдашь, а преданные женщины сейчас редкость. Но меня уже повело, за нутро потащило. Мы любим не тех, кого нужно, а тех, без кого просто не можем. Есть один рассказ — влюбленных привязали друг к другу в виде пытки. Чтобы они ходили друг на друга и все такое. Ну, потом отвязали, те смотреть не смогли друг на друга. Яма все ускорила, понимаешь? Приблизила конец.
Меня била дрожь! Сам великий Нурали сидел у моих ног и не скрывал своего горя.
— Я взял ее ноги и засунул их под свитер, чтобы отогреть. Сказал, что никогда не брошу, даже если свалимся в нужник.
— А она, скажи, что она?
— Она всегда говорила, что “люблю, сохну, обожаю” — ерунда все это. Когда один другому может что-то дать — только это чего-то и стоит! Значит, этот антисоветский художник что-то ей дал. Что же? Запретные книги, картины, которые никому не известны? Многолинейное мышление? Но за этим всегда человек, какое искусство без человека? Только человек в местах не столь отдаленных. А я — вот он, хоть и калибром не тот. — Обопрись на меня… Конечно, в такой дубак, да еще в яме, не очень порассуждаешь. Я думал — не выбраться, приготовился встретить лицом к лицу, так сказать… И тут пришел хозяин капкана и нас вытащил. И мы живы остались…
Он как замороженный смотрел сквозь меня. Потом медленно снял с меня позорные мои очки в роговой оправе и поцеловал долгим неверным поцелуем. Я даже задохнулась. Но на свой счет не приняла, потому что теперь все понимала”.
Все это Ларичева передумала и утрясла внутри, под светлыми сводами души и, пока неповоротливые пальцы домучивали надоевший текст, душа упрямо высвечивала стол с зеленым суконным верхом, газовый баллончик с качающейся на нем зажигалкой. И непостижимого, великолепного человека, который в свои шестьдесят с лишним годов мог шутя покорить любое женское сердце. А какой же он был раньше? “С этим нельзя шутить, — усмехался он, — полячки оч-чень капризны…” Значит, его любили полячки. Не будь этого, откуда бы он знал?..
Руки Ларичевой не поспевали за ее скачущими мыслями. Не успевала она записать одну историю, как ее уже тащила за собой другая. Гораздо острее и головокружительнее первой. Ларичевой всегда было не до себя. Она хотела написать такую книгу, в которой бы ревели все судьбы людей, которых она знала! Но вынуждена была писать все это по отдельности, это же так долго, муторно! И еще она боялась, что нужна любовь, хотя это далеко не самое главное.
Читать дальше