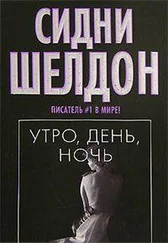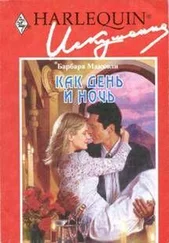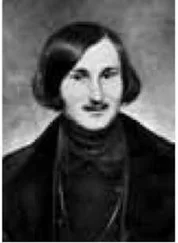— Это же безобразие! — по-русски закричал Ганча. Выпивший, он становился отчаянным и нахальным.
— Мука, сахар, табак, спичка — всё давай, — начал перечислять Дапамкэй.
— И спирта, — повелительно подсказал Ганча.
— И спиртэ! — обрадовано подхватил Дапамкэй. Мирон молча перевернул порвавшийся мешок с мукой.
— Дядя Дапамкэй, бери карабин! — покровительственно советовал Ганча, похлопывая того по плечу. — Всё бери, что твоя душа пожелает! Это я говорю, понял? — А потом, видимо, подражая какому-то русскому начальнику, обратился к Фаркову:
— Минуточку, минуточку, Мирон Захарыч! ты центнер давай! Центнер! Это я тебе говорю.
— Не кричи, Ганча, под руку. Видишь, с мешком что?.. — Мирон отмахнулся от него, как от назойливой мухи.
— Так! — вскипел Ганча. — Разобразие! Кто, спрашивается, мешок ломал?. Кто жулик?.. Оленчик, что ли?.. Прошу акт! Формляй, давай кочсовет, я буду бумажка писать! Верно я говрю? — Ганча кричал на весь домик, поглядывая на гостей — какое впечатление он на них производит. Гости помалкивали, а свои усмехались. Крик Ганчи был пустым, всё равно с ним никто всерьёз не считался.
Фарков улыбнулся и прохрипел:
— А вон там, — он кивнул в угол, — рваный ящик валяется.
— Где? — Ганча не понял иронии и опять закричал. — Формляй бумажка! Разобразие!
Слово «разобразие» он любил, повторял к месту и не к месту.
— Дулбун [8] Дулбун — дурак.
ты, Ганча. Смотри, докомандуешься, самого куда надо оформят.
Но Ганча слов Мирона уже не слышал, так как в домик, опираясь на посох, вползла мать, старая Буркаик. Эта властная, костлявая старуха держала в повиновении всю родню. Был у неё порок — пугалась неожиданного крика, но, придя в себя, могла и посохом огреть, если что не по ней.
Старуха, охая, опустилась на пол, рядом с женщинами. Ганчу как ветром сдуло.
— Кто здесь шумит? — спросила она и, не дождавшись ответа, обратилась к Сынкоик — Ох-хо!.. Кости мои. Слава богу, нашла тебя. Собираюсь сходить к вам в гости, да боюсь не дойду, ноги не слушаются.
— Приходи. У Дапамкэя учуги крепкие, быстро домчат. Я скажу, — приветливо отозвалась Сынкоик.
— Приду, приду, поговорить надо. — Старуха вынула трубку из кисета, болтавшегося на боку, набила табаком и, прикурив, стала пускать дым.
— Девка твоя, говорят, красавицей стала, — польстила ей Сынкоик.
— Растёт, да что-то женихов не видать.
— Возьми её с собой. У нас молодёжь ночами хороводы водит, спать не даёт. Парней много.
— Позову.
…Наконец покупки были уложены в турсуки, упакованы, а дядя Дапамкэй всё тянул с отъездом в своё стойбище. Он несколько раз заскакивал в чум к старухе Буркаик, откуда доносились пьяные крики Ганчи, выбегал на воздух к оленям весь потный, лоснящийся. Сынкоик сидела с Сартой и другими женщинами, разговаривала о предстоящих кочевьях. Она не терпела запаха «веселящей воды», как, впрочем, и все Хэйкогиры. За это раньше купцы их не жаловали, пьющего-то обдурить легче.
— С Ганчой гуляешь? — строго спросила Сынкоик мужа, заглянувшего в чум. Тот вытер потное лицо платком, которым повязывал голову, выдохнул:
— С начальником маленько можно. Он хорошо помог, вон сколько добра набрали. Карабин обещал. Прикажет Фаркову.
Положим, заслуга Ганчи тут была невелика, но если достанет ружьё. Сынкоик осмотрела свои турсуки и, видно оставшись довольной, смолчала. Но тут же вспомнила:
— Аргишить будем, не забудь мать Ганчи с её девкой взять.
— Сказывала она.
Амарча с Воло с утра крутились возле оленей, дядя Дапамкэй обещал прокатить Амарчу. Мечтал покататься и Воло.
— Дядя, возьмём с собой русского, — попросил Амарча. — Он мой друг, тоже на олешках покататься хочет.
Дядя Дапамкэй оглядел лупоглазого Воло, подумал, подумал и махнул рукой:
— Пусть едет. Только отцу скажи. Воло обрадовался:
— Я сейчас отпрошусь!
«Теперь-то уж точно выпрошу карабин», — решил Дапамкэй.
Неподалёку от стойбища вырос новый чум. Над ним поставили четыре тонкие и длинные лиственницы, связанные верхушками над дымовым отверстиям. Это нымнгандяк — шаманский чум. Сегодня будет камлание.
Устроить камлание просила старая Буркаик. Пусть Сынкоик не стесняется, Ганча хоть и служит в Совете, всё же свой человек. К тому же ради него и надо побеседовать с Духами, узнать судьбу денег, пропавших из стола в кочсовете.
Пока строили нымнгандяк, Сынкоик готовилась. Сейчас уже лето, природа мирно дремлет, а она, Сынкоик, чувствует прилив сверхъестественных сил лишь весной, когда начинают шуметь ручьи, когда неистово бурлит в своём половодье река. На шаманку тогда нападает тоска, беспричинный страх. Страх лишает её покоя. Частенько среди белых ночей Сынкоик вскакивает с постели и с диким криком, пугая мужа, бежит в лес, садится на берегу горного потока и поёт, поёт свои шаманские пенсии. Когда «кружит» умом, чувствует, как входят в неё Духи умерших шаманов Хэйкогирского рода, Ховоны. С каждым годом буйства её становятся всё страшнее и непонятнее, но и сила шаманская растёт с каждой весной. Уже несколько лет назад изготовила она двенадцатизубчатый бубен — столько новых земель появилось у неё на Хэрпу, на земле нижних людей. Дапамкэй гордился женой. А сородичей его такое могущество Сынкоик всё же пугало. Шаманка ведь пользуется услугами своих, Хэйкогирских, Духов, хотя живёт среди Кондогиров и других родов. При желании она может напакостить им. Но вслух таких опасений никто не высказывал, и лучшие промысловые угодья были в руках Дапамкэя.
Читать дальше

![Анатолий Приставкин - Первый день – последний день творенья [сборник]](/books/34293/anatolij-pristavkin-pervyj-den-poslednij-den-t-thumb.webp)