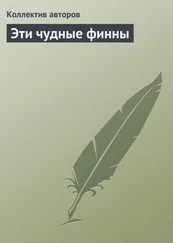Ежедневно пятьсот черных «мерседесов» с синими молниями на крышах с воем и ревом несутся по проспектам. Пятьсот водителей в черных очках не пощадят ребенка, выбежавшего за мячиком на мостовую: у них есть право на ВСЕ. За черными стеклами не различить лица тех, кто сидит на заднем сиденье. Тот, кто правит, всегда во тьме. Милиционер на перекрестке перекрывает движение и отдает честь вслед ревущему черному лимузину. Тысяча кадровых офицеров покончили с собой от бесчестья, и госбезопасность тоже не нужна обесчещенной стране, именно милиционер – главная профессия грядущего, а вор – настоящего дня.
Почему так плохо на душе, хотел бы я знать. И сам же отвечу сквозь зубы: да потому, что она есть, она жива. И вы, гниды из черных «мерседесов», не дождетесь, чтобы я вывернул ее перед вами наизнанку, как старую кошелку, чтобы вы толкнули меня потом под зад коленом в гущу той человекомассы, во что вы обратили род людской. С детства терпеть не мог манной каши, которой меня обкормили на заре жизни, а теперь готов есть ее пригоршнями, как манну небесную. До исступления. Я ем теперь быстро и жадно, крупными кусками, почти не пережевывая пишу. И мне это нравится. Да! Только милостью небес жив я каждый день, и всякий кусок мне теперь – Божий дар! А ведь я не одинок – голодных и нищих миллионы. И ты презирай меня, чтущий эти строки, но все же оглянись на всякий случай – чья-то совиная тень мелькнула у тебя сейчас за левым плечом. Ты-то спокоен, ты-то доволен жизнью? И если да, то плохи твои делишки: если сердце не дрожит в груди, значит кто-то выпотрошил тебя во сне. Повернись и вырви из совиной глотки свое сердце. Смеешься? Тогда – прощай.
Знаете, я не создан для благополучной жизни. Я когда-то жил с любимой женщиной вдвоем на берегу огромной седой Волги. Скажите мне после этого, что я не знавал счастья. Я был просто пьян этим счастьем, необъятным, как сама Волга, хотя и не пил тогда, и не нюхал этой проклятой водки. Счастье – самое хмельное зелье на свете, когда оно наваливается на человека, – такая теплота, такое невыразимое блаженство разливается по нутру, что просто перестаешь чуять землю под ногами. Счастливые всегда чуть пошатываются при ходьбе, обратите внимание. И тогда мир плывет перед глазами, все кажется чудесным и родным. И вот под таким блаженным хмельком можно жить много лет кряду. Таких счастливцев, как и пьяниц, нужно жалеть и оберегать, чтобы те не влипли в какую-нибудь неприличную историю. Но и те, и другие презирают уроки судьбы – пьяному всегда море по колено.
В ту пору я казался самому себе художником, в котором дремлют великие образы. Всемирный потоп только брезжил тогда в седых облаках над землей. Хотя Леонид – царство ему небесное! – умнейший был человек, с самого начала «перестройки» сказал: это властям надоело украдкой жить, они хотят своими миллионами рай на земле построить. Для себя рай. Небольшой такой райчик, где вместо серафима с мечом огненным – огромный недреманный костолом-омоновец, ростом с версту, с кобурой и автоматом на шее вход охранял. И чтобы у всех на виду сиял всем на диво тот эдем под стеклянным бронированным колпаком и кондиционером на куполе. И чтобы полная свобода тем, у кого есть средства эту свободу купить. Нам-то с тобой в этот аквариум тропический хода нет, мы в списке господ не значимся.
Чудное было время. Мы с Анной познакомились на моей выставке, которая проходила в большом и просторном зале, где было много воздуха из-за высоченных потолков и много света, лившегося из огромных окон. Теперь бы меня туда и на порог не пустили, даже если бы в кармане завалялись деньги на билет. Я рисовал тогда облака, распущенные по ветру космы земли, находя в них сходство с людьми, животными и демонами из Апокалипсиса. Я был профан, самодеятельный художник, не лишенный однако воображения и взгляда на вещи, но адский стрелочник уже вцепился в рычаг, и вся моя чертовщина считалась тогда очень продвинутым искусством. Я бы и теперь был на коне, умей я хоть как-то устроиться в этой жизни. Благо, что я не успел погрязнуть во всем этом. У меня, самозваного художника, имелась даже своя мастерская в детской студии рисунка. Дети приходили вечерами рисовать, я выдавал им бумагу и краски, а сам исступленно чертил на листах точеные бюсты дьяволиц, лица, глаза и рты. Зрители восхищались. Но был случай или предостерегающее видение – не знаю до сих пор – которое вовремя одернуло меня.
Не могу сказать, что это было. Я сидел в совершенном одиночестве и слушал музыку Вивальди, эстет этакий, когда дверь мастерской тихо отворилась и с улицы вошла женщина лет сорока в черной шляпе и шелковом платке, повязанном на шее. У незнакомки был в руках маленький кожаный чемоданчик, наподобие докторского. Мельком глянув на меня, она стала рассматривать мои бредовые картины, висевшие по стенам студии. У некоторых гостья задерживалась подолгу, а потом переводила взгляд на меня, все так же молча. Я тоже молчал, наблюдая за посетительницей. Наконец она заметила: «Талантливо». Я пожал плечами. «У вас есть друзья? – спросила она ни с того ни с сего. – Знайте, пока вы не один, вы не чувствуете подноготной тех тварей, которых выпускаете на свет. Но берегитесь, как только вы станете одиноки, а этого вам не миновать, мир этих чудищ сомкнётся, и они растерзают вас». «Кто вы?» – спросил я озадаченно. «Допустим, психиатр». (Это я их тогда в мир напустил – чудовищ, вот и глумятся они над нашим братом, оборотни.) И направилась к выходу. В дверях она задержалась, посмотрела на меня долгим взглядом и вышла на улицу. Я вышел следом, но перед домом уже никого не было. Скажите мне, похож ли я теперь на того, прежнего себя, о котором пишу? Вы только ухмыльнетесь в ответ. Только все это правда. Вы можете презирать меня теперь, и я достоин того, но есть во мне нечто этакое, от чего вам не отмахнуться. Этакое, с чем вам придется посчитаться в конце концов. Это вам не штрих-код и не регистрация, это даже не паспорт. Я сам не знаю, что это. Не смейтесь надо мной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу