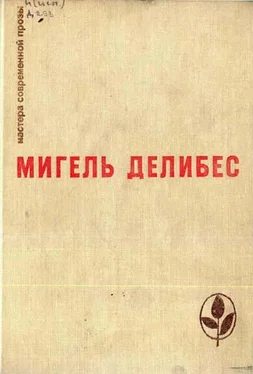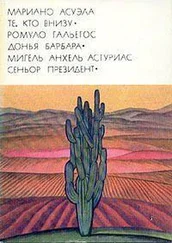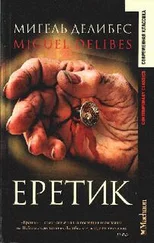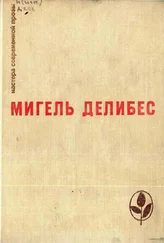В те дни Сара убегала в леса, держа за руку Роке-Навозника. Но он не боялся ни самолетов, ни бомб, а бежал только потому, что все бежали, и еще потому, что ему было занятно болтаться в лесу, где все собирались вместе со скотиной и домашним скарбом и располагались лагерем, как цыганский табор. Роке-Навознику было тогда шесть лет.
Вначале отбой воздушной тревоги возвещали колокола церкви тремя низкими и двумя высокими звонами. Потом колокола сняли и забрали на переливку, и селение оставалось без колоколов до тех пор, пока, после окончания войны, дон Антонино, маркиз, не пожертвовал ему новый колокол. В этот день в селении устроили торжество в честь донатора. Сеньор священник и алькальд, которым тогда был Антонио-Брюхан, выступили с речами. Под конец дон Антонино, маркиз, поблагодарил всех, и при этом у него от волнения дрожал голос. В общем, сеньор священник и алькальд потратили по полчаса каждый, чтобы поблагодарить дона Антонино, маркиза, за колокол, а дон Антонино, маркиз, говорил еще полчаса только для того, чтобы отплатить им той же монетой. Все получилось очень сердечно, скромно и вежливо.
Но Роке-Навозник был ранен осколком бомбы, которая взорвалась на лугу летним утром, когда он вместе с Сарой сломя голову бежал в лес. Самые сметливые в селении говорили, что это была случайная бомба, которую сбросили с самолета, чтобы «сбавить вес». Но Роке-Навозник подозревал, что излишним весом, от которого пытался избавиться самолет, был именно его, Роке, вес.
Трое друзей продолжали смотреть на шрам, по форме напоминающий кролика. Роке-Навозник вдруг нагнулся и лизнул его языком. Причмокнув, он сказал:
— А на вкус он все еще соленый. Лукас-Инвалид говорит, что это из-за железа. Шрамы от железа всегда соленые. У него тоже культя соленая, и у Кино-Однорукого тоже. Потом, с годами, этот вкус пропадает.
Даниэль-Совенок и Герман-Паршивый слушали его скептически. Роке-Навозник заподозрил, что они ему не верят. Он протянул им ногу и предложил:
— Попробуйте сами, увидите, что я не вру.
Совенок и Паршивый, колеблясь, обменялись взглядом. Наконец Совенок нагнулся, лизнул шрам и подтвердил:
— Да, на вкус он соленый.
Паршивый тоже лизнул и кивнул головой. Потом сказал:
— Да, он соленый, это верно, но не из-за железа, а от пота. Попробуйте мое ухо, увидите, что оно тоже соленое.
Заинтересованный Даниэль-Совенок пододвинулся к Паршивому и лизнул его раздвоенную мочку.
— Правда, — сказал он, — у Паршивого ухо тоже соленое.
— Ну? — с сомнением в голосе проронил Навозник.
И, желая разрешить спорный вопрос, принялся обсасывать мочку Паршивого с жадностью младенца, сосущего грудь. Когда он выпустил ее изо рта, на его лице изобразилось глубокое разочарование.
— Верно, она тоже соленая, — сказал он. — Но это потому, что ты напоролся не на колючку ежевики, как ты думаешь, а на колючую проволоку.
— Нет, — запальчиво возразил Паршивый, — я разодрал ухо о колючку ежевики. Я точно знаю.
— Это ты так думаешь.
Герман-Паршивый не сдавался.
— А как же тогда мои проплешины? — сказал он упрямо, нагибая голову и показывая макушку. — Они тоже соленые. А ведь проплешинами меня наградила птица, и никакое железо тут ни при чем.
Навозник и Совенок ошеломленно переглянулись, но один за другим наклонились над черноволосой головой Германа-Паршивого и лизнули проплешины. Даниэль-Совенок сразу признал:
— Да, они соленые.
Роке-Навозник вывернулся:
— Ну и что, что соленые. Это же не шрамы. Там у тебя никогда не было ран. Проплешины совсем другое дело.
За оконцем темнело, и долина, окутанная сумерками, наводила уныние и грусть, а они все спорили, не замечая, что близится ночь, и что по шиферной крыше еще барабанит дождь, и что уже поднимается в гору почтовый, пыхтя и время от времени выпуская белые клубы дыма, и Даниэль-Совенок сокрушался, думая о том, что у него нет шрама, который ему так нужен, и что если бы он у него был, то, быть может, удалось бы выяснить, почему у шрамов соленый вкус — от пота, как утверждал Паршивый, или из-за железа, как говорили Навозник и Лукас-Инвалид.
Роке-Навозник перестал восхищаться Кино-Одноруким и уважать его, когда узнал, что он безутешно плакал в тот день, когда умерла ого жена. Потому что Кино-Однорукий потерял не только руку, но и жену, Мариуку. И ведь его предупреждали. Особенно Хосефа, которая была влюблена в него и при каждом удобном случае, а часто и не дожидаясь удобного случая, твердила ему:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу