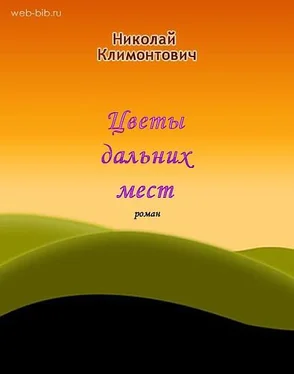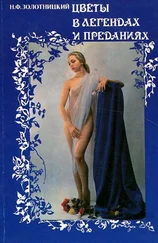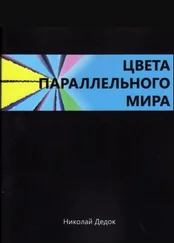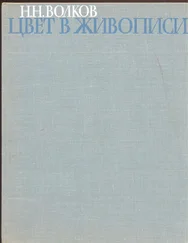— Да что, у нас вон бабы годами мужиков не знают. Какая, конечно, каждый день с другим лежит, но это все равно что одной…
— И не понять — почему так. Помните, я говорила, что за каждым пустяком должно главное стоять, «ради чего». Так и в любви. Нет, я не говорю, что, мол, мама меня неправильно воспитала… и все такое, мама моя ханжой не была никогда, но этого «ради чего», лежащего вне регламентов, установлений, порядка, мне привить некому было, это точно, в загсе этого тебе вместе с колечком на блюдечке не преподнесут. И если в тебе этого «ради чего» нет, то ты и тычешься, как слепой котенок, что делать — не знаешь, кто ты — не понимаешь, женщиной себя никогда не почувствуешь. А без этого и семья становится лишь бременем, мучительством, издевательством. Оглянитесь, теперь и детей никто иметь не хочет, скоро дети только по недосмотру будут рождаться. Семьи-то захудалые, неполнокровные, формальные… Впрочем, меня тут же можно обвинить, что я как одинокая женщина говорю, у самой, мол, жизнь не сложилась, она и поливает всех остальных. Да только жизнь моя не сложилась с какой-то очень узкой точки зрения, впрочем, кому дано объективно судить? Лучше дорасскажу, ведь у истории у этой продолжение было, окончательный финал, если можно так выразиться.
Отпуск был скомкан. С подружками я еще дальше разошлась, пока мы валялись на пляже, и они флиртовали с местными пляжными соблазнителями. Бродила одна по городу, как контуженая: не плакала, в общем-то особенно не переживала, а отупела и опустилась. Только осенью в Москве пришла ко мне такие боль, такое одиночество и потерянность, о каких не расскажешь словами. На улицах то и дело искала глазами его, никого не могла видеть, ничего не могла делать: ни заниматься, ни сидеть на лекциях. Днями шлялась по улицам, с самых дешевых любовных фильмов, на которые забредала, как завзятая прогульщица, уходила в слезах, вздрагивала от каждого телефонного звонка, будто он мог позвонить, бегала сто раз на дню к почтовому ящику, точно он мог написать. К октябрю, что хуже всего, перестала плакать, только худела, молчала, а коли мама подступала с уговорами, орала на нее страшным голосом. Писала ему километровые письма, некоторые окончательно безумные, такие, что не только ему — ни единому человеку на свете показать нельзя, но вдруг сообразила, что к празднику могу-таки отослать поздравительную открытку, ничего не значащую. Полмесяца я только и делала, что составляла текст, исписала почтовых карточек сотню, содержание было глупей глупого, дней за восемь до седьмого ноября решила, что пора. К почтовому ящику опускать открытку шла как на свадьбу, бросив, к вечеру же стала ждать ответа. Гадала, о чем он подумает, когда получит это поздравление; то уверяла себя, что он обрадуется и все станет на свои места, то не находила места от стыда, что лишь посмеется, а то накатывал страх, что он вовсе забыл меня, приступы ужаса заканчивались тем, что подскакивала температура, и я не могла встать с постели. Иногда я доходила до полного сумасшествия, твердила про себя фразы из письма актрисы, которое прочла у него, чувствовала, что сама себя режу тупым ножом, но не могла остановиться. Но, к счастью, сама острота этих приступов делала их скоротечными, мне удавалось быстро уверить себя, что «после всего» он не мог меня забыть. Дни шли, я ждала, прошла почти неделя, ответа не было, я то и дело смотрела на часы, чтоб проверить, сколько прошло минут с тех пор, как я была у почтового ящика в последний раз. Вечером я подстерегала почтальоншу, она вручила мне конверт, он был адресован отцу. Я поняла, что не выдержу. Сделав первый шаг, я готова была на второй. Получив предпраздничную стипендию, я решила лететь на праздники в Тбилиси. В лихорадке наврала что-то несусветное маме, собралась в минуту, ничего не взяла, кроме сумочки, на такси покатила в аэропорт. Билетов, разумеется, не было, но безумное мое решение придало мне таких сил, внушило такой авантюризм, какого ни до, ни после во мне уж не было никогда. Я выбралась на поле, нашла экипаж, тбилисского самолета, врала несусветное и им: что мой жених в армии, что он пролетом в Тбилиси один день, что это — один шанс нам увидеться в этом году. Наверное, я была в таком трансе, слезы катились из глаз, и врала так трогательно и натурально, что они взяли меня, смущенно поглядывая на мой вполне плоский живот. Я летела в кабине, сперва вид Москвы внизу меня несколько успокоил — я добилась своего, — но к концу полета снова разрыдалась, вспомнив, что никакого жениха у меня нет, я в мире одна, а он — меня забыл. Я рыдала так, что деньги взять с меня пилоты отказались… И вот я подкатываю к его дому. Что творится со мной — не передать, будто от того, окажутся ли на месте знакомая улица, знакомый перекресток, все и зависело. Все, впрочем, оказалось на месте. По лестнице я поднималась, скрючившись от страшного ощущения внутри, внизу живота. Это был адский страх. Я была уж перед самой дверью, как услышала этажом ниже голоса. Не помня себя, бросилась на пролет вверх, голоса стихли. На цыпочках я снова приблизилась к двери. Чувство, что пришла воровать, лишь усиливалось. Я, трясясь всем телом, нажала кнопку звонка. Открыли так быстро, что мне уж не удалось бы сбежать. На пороге стояла нестарая, статная, красивая женщина с горделивым тяжелым лицом, очень строгим. Посмотрев в это лицо, я не могла вымолвить ни слова, молясь про себя невесть кому. Некоторое время обе молчали. Потом, довольно резко, женщина спросила с явным грузинским акцентом:
Читать дальше