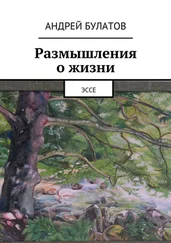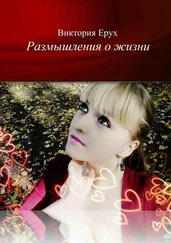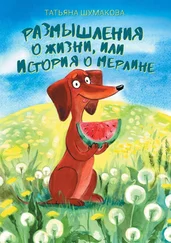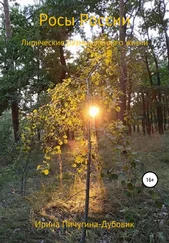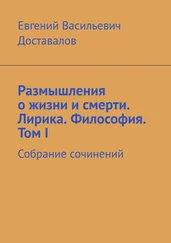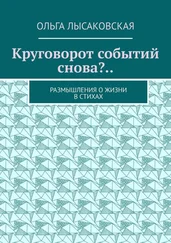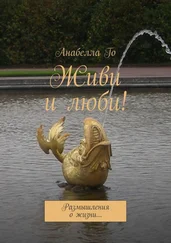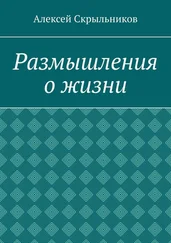Но человеку необходимо и личное счастье. Основы его закладываются в семье. Только неустанная охота на себя может принести в семью уважение и взаимопонимание. Если родители не спали душой, если любили ребенка, если помогали друг другу осмыслить пройденный путь и наметить дальнейший — ребенок вырастет таким, что его трудно будет загнать в общественную колею.
Разве не стоит ради этого поохотиться?
26 февраля 1994 г.
В молодости мы открываем новые миры в книгах, в природе, в окружающих людях. В старости мы делаем открытия в себе. И это поражает ничуть не меньше. На днях я открыл собственное призвание. Не смешно ли — к шестидесяти годам!
Всю жизнь меня преследовало чувство того, что я занимаюсь не своим делом. Ещё в институте я ощутил, что медицина — не моё, но потерянные в армии четыре года заставили отнестись к учёбе серьёзно, и я стал врачом.
Студентом я понял беспомощность медицинской «науки». Описание почти каждой болезни заканчивалось унылой фразой — «лечение симптоматическое». Практика участковой работы убедила меня в том, что я не ошибся.
Посещая больного, я остро ощущал, что вольно или невольно обманываю его. С лёгкими недомоганиями справлялась сама природа, а тяжёлые хронические недуги и не думали отступать под действием моих рецептов. Более того, они иногда усугублялись. Я понял, что врач, слепо поверивший в силу лекарств, чаще всего забывает о гиппократовом «Не навреди!».
Я понял катастрофическую недостаточность наших знаний о человеке. При современных знаниях индивидуальный подход к больному возможен лишь в форме красивой фразы. Лишь хирурги, стоматологи и акушеры видят картину своего рабочего поля, а потому в состоянии оказать больному действенную помощь.
Я стал стоматологом. За несколько лет работы изучил всё, что возможно в этой профессии: лечил зубы, работал в хирургии, занимался пародонтозом и протезировал. Последнее несколько утешало, так как результаты моей работы были в буквальном смысле «налицо». Но и здесь было больше ремесла, чем искусства. Творчества мне явно не хватало, и потому я увлёкся психологией — освоил искусство гипноза. Общение на лекциях с людьми, задающими самые сокровенные вопросы, расширяло кругозор, но и убеждало, что процессы, протекающие в «чёрном ящике» под шляпой, медицине совершенно неизвестны.
Чем бы я ни занимался, довольно быстро доходил до того уровня, за которым кончалась творческая новизна. Сосать диссертацию из пальца мне было противно. Интересовало совсем другое.
В «публичке» рядом с книгами по психотерапии на моём столе громоздились альбомы с репродукциями живописи. Интерес к искусству привёл к тому, что я думал даже поменять профессию. Два раза поступал в Академию художеств, но учиться там не пришлось.
После института я был уже женат, жил за городом, и надо было зарабатывать деньги. Но больше живописи меня интересовали люди. Общение с увлечённым человеком становилось подлинным творчеством.
В это время меня пригласили работать в Духовную академию. Я никогда не ощущал в себе тяги к религии, но согласился с немалым интересом. Казалось, что в духовной среде я открою для себя новые горизонты. Четыре года общения с церковным миром, увы, не прибавили ничего нового. В среде священников царили те же страсти, что и среди нас, грешных. Однако чтение церковных книг расширили мои познания в библейских сюжетах и помогли глубже понять западноевропейское искусство.
Благоговейное отношение к живописи не позволяло самому взяться за кисть. Я мог лишь с трепетом смотреть на работу друзей художников. Переплыть холодную километровую реку мне казалось легче, чем написать пейзаж. Но я всё же решился.
Свой первый этюд я написал в сорок лет в горах на обложке туристского журнала. После отпуска стал ходить в студию живописи, но вскоре понял, что мастерские друзей дают неизмеримо больше, чем унылые замечания руководителя студии. Года три я с увлечением писал этюды, копировал «малых голландцев», читал книги по технике живописи. Это увлечение на время пригасило сосущую тоску, но я понимал, что создать нечто новое в живописи не смогу. С не меньшим увлечением я переплетал старые книги и мастерил рамы.
В это время в моей медицинской работе произошёл поворот — я стал рентгенологом и на десять лет засел в кабинет со свинцовыми стенами. Новая профессия давала немало преимуществ: я избавился от казённой поликлинической обстановки и мог раньше уйти на пенсию. Своё дело я освоил быстро, и у меня стало оставаться свободное время. Со скуки я стал писать короткие рассказы о детстве. Я относился к ним, как к забаве и не думал об их художественных достоинствах. Цепочка воспоминаний позволила заново пережить отрочество и юность. Постепенно я полюбил это занятие и неожиданно стал замечать, что мои опусы приобретают определённую законченность. Прошлое вдруг заиграло неожиданными гранями.
Читать дальше