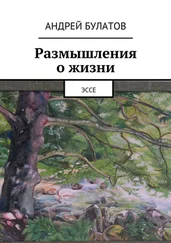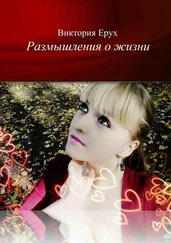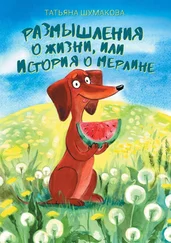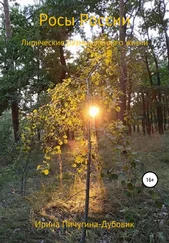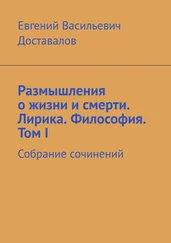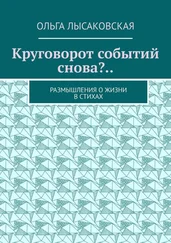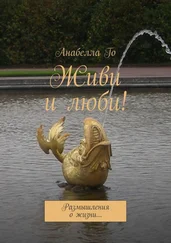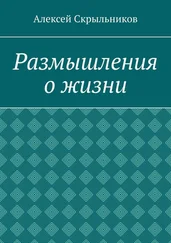— Однако когда мы читаем классику, мы понимаем, что это написал Шекспир, а то, к примеру, Пушкин.
— А я, Юрочка, в этом глубоко сомневаюсь, — ошарашил меня Степан.
Моя разумная жена, выслушав наш разговор, сказала:
— Но вы же оба атеисты. Кто же все-таки пишет?
— А разве ты, когда садишься за рояль, знаешь, как возникают твои импровизации? Разве ты сознательно сочиняешь их?
— Они рождаются во мне сами.
— Сами? Ты в этом уверена?
Праведная женщина тоже смутилась.
Поистине человеку остается удивляться тайнам бытия. «А главных тайн бытия — три. Самая большая тайна Вселенной — это жизнь. Самая большая тайна жизни — это человек. Самая большая тайна человека — это творчество.
Смертному не дано разгадать ни одну из них».
25 мая 1993 г.
Утром читал «Свет жизни» А. Платонова.
«Вернулся Аким не скоро — через пятьдесят пять лет. То нужда, работа, то свои дети, то тюрьма, то война, то прочая забота, — так и прошла вся жизнь — небольшое мгновение времени, как убедился Аким. Весь свой век он готовился к чему-то наилучшему и томился, но не мог опомниться, пока не стал стариком. И теперь, в старости, он опять стал одиноким и свободным, каким был в детстве».
Все это — про меня. Наконец, я стал внутренне свободным. Теперь хочется думать о главном.
Чем сейчас, в свои пятьдесят шесть лет, я должен заниматься?
Есть лишь три достойных дела: писать свои рассказы, петь радостный гимн жене и отдавать себя нашей внучке.
И все. Ничего важнее этого не может быть.
Все эти дела я делаю плохо. Необходимость зарабатывать деньги, страшная наша история, очереди у пустых прилавков, телевизор, а часто и лень наполняют жизнь ненужной требухой. А в это время израненный войной и творчеством друг, незащищенная от жизни жена и сама пробуждающаяся природа — внучка утекают сквозь пальцы.
Все мы, как платоновский Аким, ждем встречи с «наилучшим». Но когда оно, это наилучшее — свобода — приходит, мы не знаем, что с ней делать.
Я просто живу, дышу воздухом семейного счастья, а в душе сидит фаустовское желание остановить мгновение, взять в руки простые домашние радости и сказать людям:
«Из доброты вырастает мудрость, из мудрости — добрые дети. От таких детей ощущение счастья. Все просто, только не спешите, оглянитесь вокруг, прислушайтесь. И у вас все получится…»
Но люди не останавливаются. В суетливой нужде они несутся мимо, как несусь и я сам. Каждый спешит за своим счастьем, чаще всего обманчивым, и не знает, что пробегает мимо подлинного, природного.
Мне-то повезло, я его коснулся. Понял, что нет другого рая, чем тот, что по воле ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА СЛУЧАЯ нам выпадает иногда на земле. Но объяснить другим это я не умею.
Не раз пытался, но выходит грубо или занудно.
Чтобы человек задумался — нужен платоновский язык, чтобы услышал гармонию жизни — пушкинский. А что я могу?
Суетиться вместе со всеми, томиться своим косноязычием и лишь чуть-чуть трепетно прикоснуться к главному: жене, внучке и творчеству.
16 октября 1991 г. — 11 ноября 1993 г.
В защиту литературных девственников
Мне крупно повезло. Повезло в том, что в своих любимых занятиях я не профессионал, а значит, ничем никому не обязан. Я могу писать, что хочу, и рисовать, как хочу. Живопись и литература меня не кормят, я отдаюсь им «по любви».
Я врач, но писать хотелось всю жизнь. Всегда хотелось остановить, зафиксировать куда-то утекающие мгновения. Я страдал, замечая, как удачно сказанное слово, вдохновенно исполненная мелодия, неповторимый закат исчезают, не оставляя следа. Чтобы как-то остановить мгновение, я не раз принимался за дневник, много фотографировал. «Хорошо бы всю жизнь писать книгу, — думал я, — и чтобы все правда, все искренне…» Я подозревал, что все лучшее в искусстве написано не на заказ, а именно так.
Кому и зачем будет нужна такая книга, я не задумывался. К тому же не находил ни основной темы, ни главного героя. Собственное существование казалось мелким и неинтересным. Мучили сомнения: не есть ли желание писать — болезненная графомания?
О том, что каждый человек «ходит по роману» собственной жизни, я не подозревал. Не приходила в голову мысль о том, что всякий, кто берется за перо, вольно или невольно выражает свое время. Один делает это более талантливо, другой менее, но время фиксируется. Литератор — тот же фотограф, точнее, фотограф художественной съемки. Он волен играть с действительностью, волен включать в фиксацию любые фантазии. Он, как ребенок в песочнице, с увлечением играет событиями, чаще всего строя замки из песка. Словом, занятие это увлекательное, особенно, если, как в моем случае, не думать о гонораре. Вряд ли Гете написал бы «Фауста», если бы думал о деньгах. Философ по природе, он искал ответы на мучившие его вопросы и неожиданно втянул в этот поиск всех нас.
Читать дальше