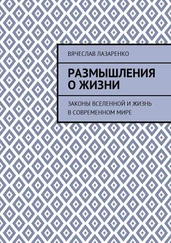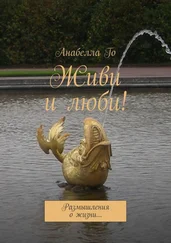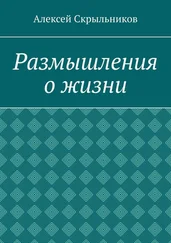Я путаюсь с ответом. Проще всего, как делают некоторые люди, объяснить это завистью, желанием принизить автора, низвести его до себя. Но это, конечно, не так. Каждого, о ком я пишу, люблю, комплексов, вроде бы, не имею, никому ничего не должен, пишу искренне. И всё же — вечное противоречие: хорошо ли писать об ошибках, промахах, слабостях характера творческих личностей? Обогащает ли бытовая правда читателя? Помогает ли читателю составить более верный образ творческой личности?
Друскин тоже мучается, думая о Самуиле Яковлевиче:
Он мне советы добрые даёт.
Вернусь домой и стул к столу поставлю,
Но ни одной строки не переправлю.
Господь судья, но что-то восстаёт.
Да, что-то восстаёт и заставляет писать о неблаговидных поступках Маяковского, о жадности к деньгам Чайковского, о позорном отношении Михаила Булгакова к первой жене…
Не зависть, не злость движет пером, а любознательность. О том, кого любишь, хочется знать всё. Хрестоматийный Пушкин даже школьникам не нужен. Мы не перестаём уважать и любить поэта, несмотря на все его грехи. Именно таким он для нас живой. Мне думается, что и я помогаю оживить известных людей, стирая с них блестящий глянец. Допускаю, что широкой публике это не нужно, но литературоведы просто обязаны лезть глубоко. Высокое творчество всегда отмоет слегка испачканные ризы.
Хуже, когда автор пишет на потребу. Вот строчки из ещё "советского" Друскина:
Был росток согрет весны лучами —
Мне на помощь партия пришла.
А вот строчка из его воспоминаний: "Когда я думаю об этой книжке, меня сжигает стыд". Ему было хуже, он вынужден был писать по "социальному" заказу. Но я не пишу по заказу, однако стыдливые сомнения не покидают: надо ли писать о "пятнах на солнце"? От обывателей я не раз слышал: "Ну, зачем об этом?", и только раз одобряющие слова от учёного-физика и доброго детского писателя Юрия Коптева, когда написал о малоизвестных и не слишком уважительных фактах из жизни Гоголя: "Я получил хороший поджопник, но этим доволен".
Когда-то писатели Григорьев, Голубева, Мирошниченко выступили на партийном собрании с заявлением, что Маршак — английский шпион. Валентин Катаев накатал два доноса на Зощенко. Терзали Ахматову, Пастернака, Бродского, Солженицына, Сахарова… Терзали всегда самых талантливых. Многих загрызали насмерть. Задумаешься тут: не похожи ли мои откровения на пляску на костях? И нет ответа.
Спасаюсь цитатой из того же честнейшего Друскина: "Неужели над моей душой будет вечно торчать внутренний цензор и долдонить: не упоминай, обидишь; это мы знаем и без тебя; этого никто не помнит, да и не нужно; это не интересно; а вот это, пожалуйста, — попробуй. Не хочу, не могу, не буду! Всю жизнь я ходил под чужим контролем и освобождаюсь от него неужели только для того, чтобы терпеть свой собственный?".
Существуют, конечно, этические запреты. Не принято, например, писать о творческих личностях как о психически больных. По крайней мере, до тех пор, пока они не попадают в сумасшедший дом. Есть в психологии такое понятие — шизоидность. Не секрет, что высокое творчество требует полной отдачи, превращается в идефикс, а подобное состояние всегда на грани болезни. Я как врач совершенно уверен, что Хлебников, Филонов, Хармс и многие другие были шизоидами, но нужно ли об этом говорить? Недосказанность о творцах и творчестве всегда оборачивается ложью. Ведь искусство движется только усилиями одержимых.
Говорят, Хармс, боясь ареста, "косил под сумасшедшего", но, судя по многим его стихам, всё же не только "косил".
И ещё один жуткий вопрос ставит передо мной "Спасённая книга" — об авторстве. Хармс и Маршак вместе сочинили детское стихотворение, ставшее весёлой песенкой: "Жили в квартире сорок четыре сорок четыре весёлых чижа…" По стилю стихотворение совершенно хармсовское, но Хармса упоминать запретили, и Маршак печатал эти стихи под своим именем.
В романе "Эксперимент" немало текстов моего друга, заводского шофёра Степана Караульного. Он мечтал написать большую книгу, но знал, что не сможет это сделать. Поэтому официально, через нотариуса, передал эту работу мне. Умирая, он на меня надеялся. Я книгу написал, но кто её автор?
Умный, уважаемый мною поэт Дмитрий Киршин уверяет, что подписать книгу я должен своим именем. Но разве только один я её автор? Я даже не уверен, что имею право поставить на обложке своё имя первым. Без записок Степана, без его рассказов о детстве, о войне, о заводе не родилась бы книга. Я только пытался осмыслить время и героев. Я донимал рассказчика провокационными вопросами, без них я не смог бы ничего написать. Рассказчика нередко надо было отрывать от бутылки.
Читать дальше