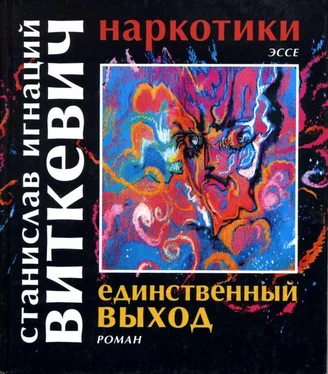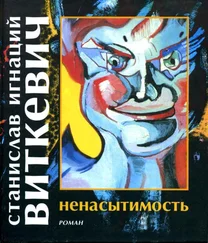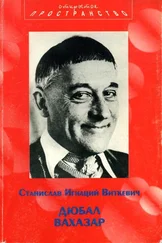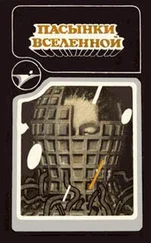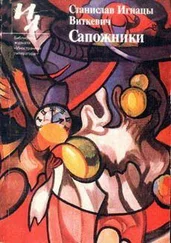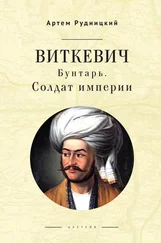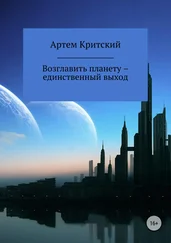Русталке Идейко — его теперешней жене, а почти до вчерашнего дня психической, а еще полгода назад и физической любовнице его ближайшего, единственного друга Марцелия Кизер-Буцевича, художника (но художника настоящего, какого, кажется, до сих пор не было во всей мировой истории, а не какого-нибудь там натуралистического халтурщика — ибо по сравнению с недосягаемым совершенством природы каждый — халтурщик, у которого только и есть общего с живописью как искусством, что он свиной щетиной да конским волосом размазывает по холсту цветное месиво), было уже 28 лет от роду, и принадлежала она к известному (в Литве) литовскому роду, претендовавшему на княжеский титул. Фамилия Русталки брала начало не от «идеи», а от слова «иди» — так, кажется, сказал одному из ее предков Великий князь Литовский Ольгерд, прибавив к этому «и победи!» (герб «Ид» — вытянутая рука с вытянутым же указательным пальцем, пересекающая наполовину белое, наполовину красное поле), а тот пошел и победил кого-то там под Байсеголой, и пусть земля ему будет пухом, а кто меня, автора этого романа, на основании данных, которые я здесь привожу, обвинит в аристократическом снобизме, тот — гадкий и злобный кретин, а не интеллигентный человек. Боюсь, что Хвистек в своей неповторимой — переплетением банальности с утонченностью — книге «О духовной культуре в Польше» поступил именно так, описав, как они с каким-то там графом (притом умным и глубоким, что бывает редко) покатывались со смеху над моей бедной княгиней из «Ненасытимости» и над бароном — впрочем, в этом я не уверен. «Ну и пусь, ну и пусь» — как говорят в таких случаях старые и мудрые горцы на Подгалье.
Русталка давно уже нравилась ему: ее льняные волосы, раскосые зеленые глаза и большие, цвета земляники уста, казалось ему, были воплощением всех его детских грез, когда он испытывал бычьи эротические содрогания во время езды на велосипеде за одной босоногой девчушкой, возвращавшейся из школы и — как потом оказалось — очень похожей на Русталку. Au fond [102] В сущности (фр.).
это было отвратительно, потому что отвратительно, но «шо ж ты, паря, буишь делать», как говаривал один очень умный горец. Предрассудков у Изидора не было. Так почему же, почему ему на ней было не жениться (ведь не причина же, что она не была «девицей» в понимании XIX века и что его друг Марцелий пресытился ею — впрочем, и она им тоже, — хотя все это было вовсе не так просто), коль скоро она ему нравилась физически, а психически он — для шизоида — любил ее даже очень.
Ох уж эта любовь астеников! Это ж просто черт знает что такое! Разумеется — для пикнических субъектов, сами же они абсолютно не отдавали себе в этом отчета. Всегда неуверенные в себе, вечно сомневающиеся, постоянно разорванные между диаметрально противоположными чувствами, сами себя преследующие на неведомых тропинках, протоптанных их собственными двойниками (которые часто были прекрасней, чем они сами), вечно ненасытные и снедаемые угрызениями совести, исключительным непостоянством эмоций и до болезненности мелкой чувствительностью. А вдобавок — постоянное ощущение, что все «не то», что за гранью этих мук есть где-то солнечный мир простых, прекрасных и свободных чувств, мир недостижимый, лелеемый в мечтах и безвозвратный — тот, что будто был когда-то где-то здесь, да только отлетел, как мираж, в иное, недосягаемое измерение бытия. Но теперь будет не так. Теперь у Изидора есть жена, и в ней (или на ней) он решил окончательно завершить серию своих — довольно, впрочем, скромных — эротических приключений (скромных с точки зрения какого-нибудь Артура Рубинштейна или Казановы, но — Боже мой! — зачем же окончательно?) и до самой смерти больше не беспокоиться. Русталка была похожа на него духовно и даже немного физически, правда, она была светлой масти — на худой конец после соответствующей перекраски они могли бы сойти за брата и сестру. Вот из нее-то Изя и решил сделать дамбу, которую не перехлестнули бы никакие волны сомнений в окончательной реальности этой жизни. «О реальность! Как же ты неуловима, нельзя ни убежать от тебя, ни понять до конца!» Для людей пикнического типа эта проблема либо иллюзорна, либо она вообще блеф — но что же с ними поделаешь, «o ma belle cousine [103] О, моя прекрасная кузина (фр.).
, если они такие с... сыны, что с ними поделаешь»?
Да, да — здравый смысл: от его основ решил он «выйти» на покорение неприступной крепости, той единственно неотразимой, единственно истинной метафизики, неприступной, как ему казалось, ни для какой из известных ему систем. Да, да — этот презираемый здравый смысл, в коем присутствуют преимущественно неоднозначные понятия, берущие начало в двойственности самого бытия, проистекающие из самого понятия Бытия, вовсе не так уж и достоин презрения. Из биологии должно дойти мерцание роковых загадок (sic) нашего времени, ибо проблема отношения логики к психологии и наоборот (вторая, после психофизической, основная проблема философии) замирает на границе их соприкосновения, то есть — возможности перевода одного на язык другого (или обоих на некий третий, общий для них язык) — психологизма в лице Корнелиуса (этого так мало читаемого мудреца) и феноменологизма Гуссерля. Как только такой «перевод» будет осуществлен (при этом, кажется, понятия «акта» и «интенциональности» будут поглощены психологистической терминологией в качестве первых приближений), дискуссия на сей предмет должна прекратиться.
Читать дальше