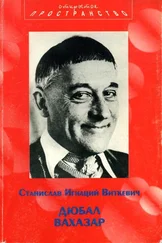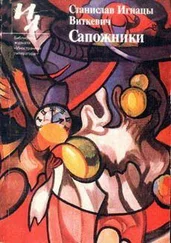Таким образом, метафизическое беспокойство является источником любой религии, метафизики и искусства — об этом последнем паскудстве не стану говорить, разве что в последнем из приложений в самом конце системы. В религии мы имеем дело с конструкцией чувственных состояний, выраженных символами, причем состояний, являющихся мешаниной житейских и метафизических чувств: в философии же, или, как я предпочитаю называть ее — в Общей Онтологии, — с конструкцией понятий, берущих свое начало в этих чувствах, и, наконец, в искусстве — с конструкцией форм, непосредственно выражающих принцип единства во множестве, наиболее фундаментальный principium существования. Однако в религии имеет место гипостаз ощущений — затем, чтобы под видом человеческих, в сущности, более чем человеческих личностно воплощенных божеств, иметь возможность безнаказанно, но зато и без истинного удовольствия, общаться со страшной тайной Бытия. Ибо то единственное, что мы знаем непосредственно и в чьем образе мы можем представить руководство всего, чего угодно, — мы сами; вот почему в конце концов мы представляем божество в личностной оболочке. Оно — властелин мира, созданный по образу и подобию древних правителей земли и даже...
Вытаращив глаза, Русталка с невыразимой мукой вслушивалась в металлически «чеканные» слова Изидора; в ней все больше и больше «usugubliałas» потребность заполучить его интеллект в свою собственность: «оглупить и конфисковать», как говорил Марцелий, считавший, что в этом и состоит основная роль женщины в жизни мужчины. Нет, это не было оглуплением, скорее это было освобождением прекрасной машины от отвратительной, бесплодной, онанистской, безнадежной работы и обращением ее к живым источникам жизни, в союзе с которыми все, даже самое плохое, превращается в совершенное, исполненное высочайшего полета счастье. Разве без глубокой веры в конечный смысл всего на свете, в будущую жизнь и бессмертие выдержала бы она все эти четыре года мучительного сожительства с очумелым алкоголиком и кокаинистом, каким и был Марцелий, впрочем, каким-то чудом он был также и сотрудником Пэ-Зэ-Пэпа, невероятным трусом, но сумевшим так обуздать свой смертельный, парализующий, прямо-таки пердячий страх перед всем, начиная с тараканов и клопов и кончая газовыми бомбами и тяжелыми гранатами, что стал способен к действиям, беспримерной смелостью своей превосходившим даже самые дикие поступки пресловутых «отважных людей». (Только не в состоянии максимальных доз: тогда его охватывала тяжелая апатия и реакции становились абсолютно неадекватными.) Совместная жизнь пылала в воспоминании насыщенными темными красками тмутмутараканских и джевглидских ковров, в реальности же она была страшно мучительной: как будто постоянно находишься в одной комнате с вырвавшейся из клетки злобной пьяной обезьяной, которая того и гляди откусит нос, ухо, а то и выцарапает глаза или выгрызет пупок.
Пьяный в стельку и накокаинившийся до превосходивших алкогольное опьянение высших этажей какой-то устремленной вверх черной башни человечьих судеб (что-то вроде «водонапорной башни», Сухаревой Башни или Bloody Tower), шел он к их «семейному гнездышку». По сторонам мелькал пейзаж, как будто пролетал мимо окон мчащегося «на всех парах» поезда. Судьбы были размазаны по всему давно минувшему прошлому. Будущее стало свободным — он, как и хотел, мог забыться, он был один — мог забыться, создавая наконец истинную живопись — единственную в мире, абсолютно чистую форму без абстрактности кубистического ступора и без футуристической разнузданности чувств. Истинная живопись — сколько же очарования было в этом понятии, окончательно потерянном в последние десятилетия первой половины XX века. Марцелий считал себя чуть ли не единственным во всем мире художником-живописцем, именно тем живописцем, в котором вся мировая живопись (разумеется, чисто художественная, формальная) нашла свое высшее выражение и завершение. Он, конечно, жутко раздувал свое значение, как, впрочем, и все художники, но что-то в его мегаломанском трепе было настоящим. Ведь это было время умирания живописного искусства на всем европейском пространстве, не говоря уже о других частях света, и было совсем нетрудно быть первым. Быть гребешком, венчающим столь величественное некогда явление, как живопись, — действительно великое в своем роде дело. И при этом иметь то, ради чего действительно стоило каким-то оригинальным образом разрушить свой организм и умереть, что по тем временам, даже в мире иллюзий и галлюцинаций, было «изрядной» редкостью. А перестать писать картины он не мог: иногда для такого шага надо иметь характера больше, чем может показаться заурядному простачку.
Читать дальше