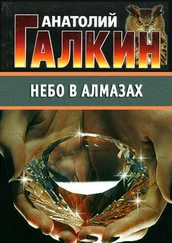Кукес вдалеке увидел Ксюшу Смирнову - институтскую свою любовь. Та шла с подругой Жигалкиной, застенчивой дылдой-худышкой. Вместе они смотрелись, как Пат и Паташон, как Тарапунька и Штепсель, как Дон-Кихот и Санчо Панса.
Ксюша демонстративно остановилась, закуталась в розовый шарф и бросила на Кукеса из-под мышки Жигалкиной быстрый косвенный взгляд, выражавший сложную смесь справедливого негодования, клокочущей обиды и долго сдерживаемого гнева. Несмотря на столь грозные признаки ее плохого настроения, Птицын, наблюдавший эту сцену, сравнил бы ее скорее с мокрым, нахохленным цыпленком, нежели с разъяренной тигрицей, какой она, наверно, себя ощущала.
Кукес между тем как будто окаменел, словно его сразил убийственный взор горгоны Медузы. Обыкновенно брызжущий весельем и остроумием, щедро наделенный природным блеском, если только не впадал в депрессию, теперь Кукес представлял жалкое зрелище: он ссутулился, втянул голову в плечи, обмяк, как мешок, глаза остекленели и выкатились наружу - в них застыла общееврейская неизбывная печаль, почему-то особенно выпуклая в профиль. Птицын с энтомологическим интересом следил за быстрыми метаморфозами лица Кукеса.
Вдруг голова Кукеса дернулась. Он вздрогнул всем телом, точно петух на шестке, которому во сне привиделся соседский индюк, изрядно потрепавший его в жестокой драке. "Я же должен был отдать ей тетрадь Жигалкиной! Как я забыл! Какой болван!" - в патетическом отчаянии пробормотал Кукес и бросился вдогонку за Ксюшей, успевшей скрыться за колоннами.
Последней из девятой аудитории, переваливаясь со ступеньки на ступеньку, словно по скользкому трапу, с кряхтеньем выползла розовощекая старушка Кикина. В руках она сжимала стопку тетрадок - драгоценнейший груз, а именно лабораторные работы по фонетике: разбитые на компактные куски тексты "Преступления и наказания", затранскрибированные студентами. Собственно, транскрибировала одна только староста группы Птицына и Лунина Ира Селезнёва да еще, пожалуй, несколько старательный девочек из других групп, а все остальные коллективно списывали у них, ничуть не заботясь о титанических усилиях, которые выпали на долю этих подвижниц, убивших несколько суток на рисование крышечек, апострофов, еров и ерей, разъявших, как труп, какую-нибудь там сцену убийства старухи-процентщицы.
Дотошная Идея Кузьминична Кикина, с присущей ей педантической скрупулезностью, умудрялась отыскивать тьму ошибок в списанных работах, притом что она нисколько не сомневалась, что они списаны. Она наслаждалась своим законным правом заставить студента много раз подряд опять и опять погрузиться в волшебный мир транскрипций.
В ее облике, несомненно, было что-то фонетическое, точнее фанатическое: столько сладости, даже патоки, разливалось по ее желтому пергаментному лицу, в то время как она произносила свою любимую фонему "И-И-И". Сахар был поистине быстрорастворимым, если бы только сладость то и дело не переходила в желчь.
Кикина произносила слова с блаженнейшей интонацией ласкового участия к людям. Она радушно улыбалась, так что глаз не было видно, а губы вытягивались в ниточку и соединяли между собой румяные дряблые щеки, ходившие вверх-вниз наподобие громоздкого циркового велосипеда с надутыми бордовыми колесами, между которыми на маленьком сиденьице спрятался крошечный клоун - нос-кнопка. Сахарная улыбка заполняла всю аудиторию и отделялась от ее лица, как улыбка Чеширского кота, заставляя студентов вздрагивать от кошмарных воспоминаний о пяти-семи пересдачах затранскрибированных текстов. Никто не сомневался, что она подсунула им "Преступление и наказание" из тайного злорадства. Послал же им чёрт такого фонетиста, в дополнение наградив старушку должностью замдекана по учебной работе!
Птицын увидел, как сбоку от раздевалки в холл вышел Миша Лунин, как всегда никого не замечавший, витавший в облаках, с блуждающим взором и запрокинутой вверх головой, с лицом несколько одурелым, но одухотворенным. Наверно, он сочинял стихи.
Лунин безмятежно размахивал громадным черным дипломатом, которым втайне гордился, считая, что хоть он и обтянут дешевым заменителем, но очень похож на настоящую крокодилову кожу. Расстегнутое пальто Лунина, болтавшееся на локтях, странно-синего цвета с золотой искрой, напомнило Птицыну наваринский дымчатый фрак Чичикова. На голову Лунин нахлобучил мягкую фетровую шляпу с широкими полями - летнюю шляпу в такой мороз! Брр! Не однажды Миша показывал Птицыну шелковую подкладку шляпы, где был обозначен год выпуска - 1799. Год рождения Пушкина. Миша называл свою шляпу пушкинской.
Читать дальше