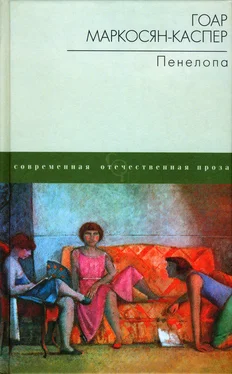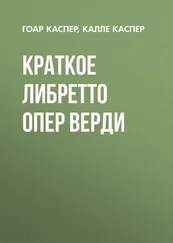Эти дамские истерики вкупе с суровым молчанием переходившей от отчаяния к презрению и от презрения к недоумению Пенелопы все больше расшатывали и так уже вывернутые, вывихнутые во всех суставах отношения. Развязка наступила в сентябре, и снова это намертво увязалось у Пенелопы с площадью, предопределив еще неблизкий, но уже очевидный конец ее личной карабахской эпопеи. (Посильный вклад в народную борьбу был сделан, и она незаметно перешла на роль сочувствующей, так сказать, попутчицы, постепенно сбавлявшей шаг. Правда, остановиться ей предстояло не так скоро, но это было неизбежно.)
Приехала она на метро, по перекрытой улице Баграмяна транспорт не ходил, и метро было переполнено, как в нынешние бестоковые и малобензиновые времена. На Еритасардакан из вагонов вывалилась огромная толпа, хлынула из круглого горла станции наружу и вся, как есть, потекла в сторону Театральной площади. У памятника Спендиарову, где они обычно встречались, Эдгара-Гарегина не оказалось, и Пенелопа стояла понурая, меланхолически созерцая окружающее ее неутихающее действо — все те же сидячую демонстрацию, голодовку, правда, содержание лозунгов обновилось, детство кончилось, и сессии советского псевдопарламента больше никого не волновали. Развевался флаг, триколор, красно-сине-апельсиновый, цвета крови, неба, зреющих хлебов, как тогда объясняли всем эту еще или уже незнакомую, за семьдесят лет основательно подзабытую символику. Семьдесят лет ведь очень много, флага первой Армянской республики не видела не только Пенелопа, но и ее родители, а те, кто имел возможность его лицезреть, бабушки-дедушки, давно удалились в лучший мир, унеся с собой свои воспоминания. Человеческая память трехзвенна — от деда до внука; уничтожь эти три звена, и устная история оборвется; собственно, уничтожать физически не обязательно, достаточно нарушить передачу, замкнуть страхом или обманом уста, и когда очередное поколение кинется смотреть в зеркало истории письменной, оно может увидеть за своей спиной что угодно, вплоть до пришельцев или питекантропов. В том-то и опасность письменной истории: выступив как способ увековечения памяти, она одновременно явилась средством ее искажения.
К описывавшей вокруг памятника неровные круги Пенелопе подошел знакомый парень, такой же понурый, как она, — но сколь разными были мотивы подавленности его и ее.
— Ты не можешь себе представить, — говорил он с тоской, — как унизительно для мужчины это ощущение бессилия. Ибо мы бессильны. Нет выхода. Словно бьешься головой об стену. Не идти же с голыми руками на танки! Хотя, если понадобится, пойду и на танки. Только какой от этого прок? Ты женщина, тебе легче.
— Это почему же женщине легче? — спросили б воинственно девять из десяти бродивших по площади особ женского пола, а многие оскорбились бы и стали с пеной у рта доказывать, что патриотизмом они уж никак не уступают мужской братии, но Пенелопа молчала, смотрела на парня с пониманием, пытаясь собрать расползшиеся в разные стороны мысли — некоторые, признаться, забрались так далеко, что догнать их и приволочь за шкирку обратно на площадь было делом непосильным. Конечно, женщине легче. У нее свои проблемы. Общественные всегда подождут. Вот когда у женщин нет своих проблем, они дуреют. Или звереют. Становятся фанатичками, бегут за властелинами дум, по их указанию — а часто и опережая указания — выцарапывают глаза, перегрызают глотки. А когда у них свои проблемы, они не опасны для общества.
Эдгар-Гарегин появился, когда Пенелопа уже решила уйти. И решила своего решения не менять. Решительно и бесповоротно.
— Тогда я тебя провожу, — сказал ей храбрый рыцарь, нащупывая на боку ржавый меч с отломанным концом. — Не могу отпустить одну. Там на дороге оккупанты.
— Ничего мне оккупанты не сделают, — возразила Пенелопа, но Эдгар-Гарегин был неумолим.
Движение по проспекту Ленина было почти обычным. Не считая того, что у перекрестка стояли насупленные пешеходы, ждали, пока медленно проползут облепленные солдатами бронетранспортеры, всего четыре штуки, Пенелопа машинально пересчитала их. Похоже на кадр из фильма «Освобождение». Минус реакция «освобожденных».
Перейдя в конце концов проспект, они прошли по Саят-Нова к началу Баграмяна и там наткнулись на зрелище почти фантастическое. Чуть выше по Баграмяна, напротив здания Союза писателей, улица была перекрыта стоявшими в ряд БТРами, перед которыми сбились в плотные ряды «оккупанты» в милицейской форме. В городе шли толки, будто это переодетые армейцы, милицейская форма, мол, раздражает меньше, — возможно, и так, Пенелопе, откровенно говоря, было не до подобных тонкостей, по крайней мере на данный момент. Однако то, что происходило ближе, заинтриговало и ее. Метрах в двадцати от солдат-милиционеров, поперек проезжей части протянули канат, вдоль которого во всю ширину улицы лежали люди, в основном молодежь, мальчишки и девчонки лет по восемнадцать-девятнадцать. Картину дополняло или, скорее, венчало знамя, само собой трехцветное, у знамени стоял своеобразный караул из трех человек, а к канату были подвешены портреты — на ближайшем Пенелопа узнала Андраника, и возле портретов тоже вытянулись во фрунт часовые, у всех, естественно, правая рука вверх, пальцы в кулак. Словом, продуманная и отрежиссированная мизансцена, народный театр. Слава богу, что солдатикам — а солдатики оказались такими же мальчишками, — не давали приказа разогнать демонстрацию, и те могли, удивленно таращась, лицезреть поставленный для них спектакль. Проходя мимо демонстрантов, Эдгар-Гарегин картинно отсалютовал им тем же символическим жестом, промаршировал еще несколько метров, гордо выставив кулак, а потом впился взглядом в «оккупантов» — вот я какой, смельчак, герой, нате, берите меня, бросайте в тюрьмы и лагеря!.. Несмотря на свое гробовое настроение, Пенелопа оживилась, представив себе, как Эдгара-Гарегина бросают в тюрьмы и лагеря, — тюрем много, Эдгар-Гарегин один, на все узилища его не хватает, и его перебрасывают из одного в другое, быстрее и быстрее, как мячик или, скорее, шайбу — со свистом и грохотом от попаданий в бортик, то есть в стену…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу