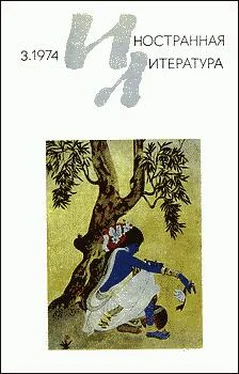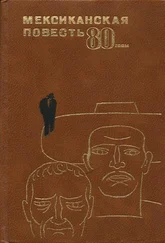Они берут меня за руки, а глаза мои по-прежнему закрыты.
— Какая она была, сеньор, расскажите, расскажите...
— У Амиламии серые глаза, и цвет ее волос меняется в тени деревьев и в отсветах солнца...
Они ведут меня оба осторожно. Я слышу одышку старика и мерный шорох от креста, который раскачивается на животе женщины...
— Расскажите, расскажите, пожалуйста...
— Она часто прибегала ко мне в радостных слезах.
Я не открываю глаз. Теперь мы подымаемся... Две, пять, восемь, девять, двенадцать ступенек. Четыре руки подталкивают меня кверху.
— Она любила сидеть под эвкалиптом и сплетать косичкой тонкие прутья и иногда притворялась, что плачет, чтобы я не уходил...
Скрипят дверные петли. Запах убивает все сразу, он отгоняет любое ощущение, усаживается, как Великий Могол, на трон моего воображения, тяжелый, будто кованый сундук, пронизывающий, словно шелест шелковых занавесей, сверкающий, как мертвая звезда, изукрашенный наподобие турецкого скипетра. Руки меня отпускают. Но теперь я в плену тихого, настойчивого плача.
Медленно поднимаю веки: пусть сначала сетка моих ресниц, роговица моих глаз воспримет это крохотное помещение, задушенное битвой ароматов, испарений, осыпи краснеющих лепестков.
Цветы здесь так неожиданны, в них такая власть, что они кажутся живыми существами. Сколько нежности в азалиях, сколько смертельной тоски в лилиях, какая церковная торжественность в гардениях, до чего отвратительна приторность тубероз! Маленькая каморка без окон, освещенная раскаленными добела ногтями восковых свеч, протягивает к моему мозгу тонкие щупальца сухого воска и влажных цветов, и тогда я возвращаюсь наконец к жизни, становлюсь зрячим и вижу там, позади свечей, среди разбросанных цветов, горку из старых игрушек: разноцветные обручи, смятые мячи, похожие на подгнившие сливы, деревянные лошадки с выдерганной гривой, ролики, безволосые, безглазые куклы, медведи, из которых давно высыпались опилки, съеденные молью собачки, скакалки, стеклянные вазочки с ссохшимися конфетами, продырявленные резиновые гуси, ношеные туфельки, три колеса, нет — два, и вовсе не от велосипеда: два параллельных колеса, кожаные ботиночки с замшевой отделкой. А напротив — можно достать рукой — маленький гроб, поставленный на синие ящики, украшенные бумажными цветами. Это уже цветы жизни — гвоздики, подсолнухи, маки, тюльпаны, но как те цветы — цветы смерти, они тоже необходимы, нужны здесь, где настаивалось дурманящее прелое тепло, нависшее над посеребренным гробиком, в котором на черных шелковых простынях и белой атласной подушке покоилось ясное неподвижное лицо, обрамленное кружевами и подкрашенное розовой краской. Брови на этом лице нарисованы тончайшей кистью, веки сомкнуты, а настоящие густые ресницы отбрасывают тень на щеки — такие же пухлые, пышущие здоровьем, как и те, что я видел в парке. Губы серьезные, вытянутые трубочкой, точь-в-точь как в те дни, когда Амиламия притворялась рассерженной, чтобы я все бросил и играл в ее игры. Руки сложены на груди. Четки, такие же как и у матери, плотно обвиты вокруг шеи из папье-маше.
Старики со слезами на глазах опускаются на колени.
Я протягиваю руку и пальцами прикасаюсь к фарфоровому лицу подруги моего детства. Какие холодные глаза, брови, рот у куклы-королевы, которая властвует над всем, что заполняет эту обитель смерти. Фарфор, вата и папье-маше. « Ни забывай сваю падругу и преходи ко мне по этаму ресунку ».
Я отдергиваю руку от куклы-покойницы. На ее лице отпечатываются следы моих пальцев.
В моем желудке, вобравшем в себя чад восковых свечей и зловоние тубероз, поднимается тошнота. Я отворачиваюсь от куклы, от мертвой Амиламии. Сеньора дотрагивается до моего плеча. Глаза ее расширились, а голос по-прежнему ровный, безжизненный:
— Не приходите сюда больше, сеньор. Если вы действительно ее любили, никогда больше не приходите.
Я слегка касаюсь ладони этой женщины, вижу сквозь туман голову старика, спрятанную в коленях, и выбегаю из каморки на лестницу, потом в залу, оттуда во двор и на улицу.
Прошел, наверно, год, во всяком случае месяцев девять-десять. Воспоминания об этом странном идолопоклонстве уже не терзали меня, как прежде. Я забыл и запах цветов, и образ холодной куклы. Настоящая Амиламия вернулась ко мне, и я снова почувствовал себя если не счастливым, то, по крайней мере, здоровым. Парк, озорная девочка, книги моего отрочества вытеснили из памяти все подробности этой печальной встречи. Образ жизни побеждает все. Теперь я никогда не расстанусь с моей настоящей Амиламией, победившей безобразную карикатуру смерти. Я даже отваживаюсь однажды перелистать ту самую тетрадь в клеточку, где записывал вымышленные цифры. И вдруг из ее страниц снова, как и тогда, вылетает записка Амиламии с каракулями и планом дороги к ее дому. Я поднимаю записку, покусываю, улыбаясь, ее краешек, и тут мне приходит мысль, что бедные старики были бы, наверно, рады сохранить эту записку.
Читать дальше