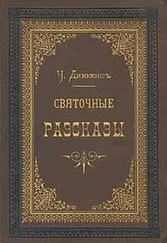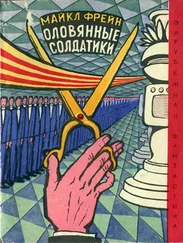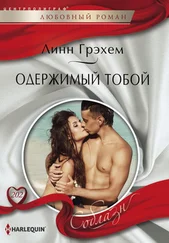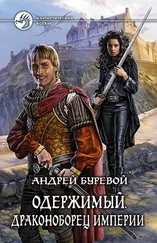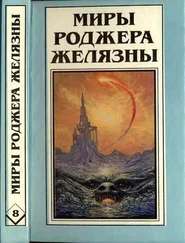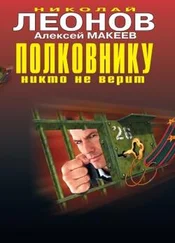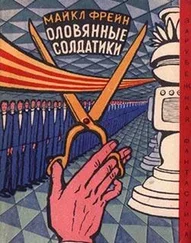Но вернемся к «Охотникам». По соседству, на этой же стене, размещены еще два пейзажа почти такого же размера, но несколько менее известные. Слева от «Охотников» — вновь долина реки, не та же самая, конечно, но явно расположенная в той же части света, и снова мы смотрим с высокого холма, и снова видим зубчатую горную цепь вдали, но теперь на дворе тихий осенний день, листья на деревьях пожелтели, и виноград давно созрел. На этой картине вниз по склону холма от нас удаляются не охотники, а пастухи, которые гонят отъевшихся за лето на горных пастбищах коров в долину, где им предстоит провести суровую зиму, обрисованную в «Охотниках на снегу». Слева от «Возвращения стада» — очередная речная долина в той же горной стране; и мы снова смотрим с высокой точки, и снова перед нами остроконечные вершины вдали. Здесь погода другая — ненастный день в самом начале весны: рваные темные тучи бегут по небу, обгоняя друг друга, корабли терпят бедствие в широком устье реки. Крестьяне на переднем плане подстригают деревья, пока не появилась первая листва. Холодные дожди на исходе зимы размыли склон холма и улицы раскинувшейся здесь деревушки, грязь непролазная. Несмотря на панорамный обзор, по-моему, это малопривлекательное местечко, особенно в подобный «сумрачный день» (как сообщает нам название).
Совершенно очевидно, что три описанные картины связаны единым замыслом, а в других музеях мира хранятся еще две работы из этого цикла. Если отправиться в Национальную галерею в Прагу — или перевернуть, как в моем случае, страницу альбома брейгелевских репродукций, — то можно увидеть четвертую по счету реку и четвертую гряду крутых скал. На этот раз изображен яркий солнечный день, мы находимся довольно далеко от реки на более пологой местности и наблюдаем за сенокосом. И вновь мы видим крестьян, которые удаляются от нас в сторону деревни, нагруженные плодами середины лета — вишней и фасолью. Если же перевернуть еще одну страницу или отправиться в нью-йоркский музей Метрополитен, там нас ждет пятая подобная долина. Погода здесь еще жарче, и ландшафт почти плоский. Высоких гор нет, и мы видим лишь кусочек реки, впадающей в спокойное, кишащее судами море. Мы присутствуем на жатве в жаркий летний полдень и наблюдаем, как одни крестьяне связывают сжатые колосья в снопы, а другие дремлют в тени дерева, пока женщины нарезают хлеб для обеда.
На четырех из пяти картин стоит подпись автора и дата. И лишь «Сенокос», который, судя по всему, был обрезай но нижней кромке на три-четыре сантиметра, составляет исключение. Все четыре работы были созданы за один год, 1565-й, и изображенные на них события также охватывают календарный год. Мы видим все четыре времени года, каждому из которых соответствуют определенные виды сезонных полевых работ и погода. «Сумрачный день» — это явно весна; «Возвращение стада» — осень; «Охотники на снегу» — зима. Но между весной и осенью мы наблюдаем некоторое нарушение равномерности цикла: на лето приходятся не одна, а две картины — «Сенокос» и «Жатва».
Четыре времени года — пять картин.
С одной стороны, ничего удивительного. Нет ничего странного в том, что самое приятное время года изображено дважды. Но даже в пределах этой асимметричной схемы картины распределены как-то непонятно. «Охотники», судя по погоде, возвращаются домой в наисуровейшую пору зимы, вероятно, в январе. «Сумрачный день» — это самое начало весны, фактически еще зима. Возможно, показано начало марта. То есть после возвращения охотников прошло чуть больше месяца. В результате временной разрыв между «Сумрачным днем» и следующей картиной цикла составляет не менее трех месяцев, потому что сенокос никак не мог состояться раньше июня.
Все это наводит на мысль, что в серии нет «лишних» картин, а наоборот, одной картины не хватает.
И так уж получается, что вся моя дальнейшая жизнь зависит теперь от того, какой именно картины недостает.
Итак, на пяти картинах показаны четыре времени года, и хотя весь этот цикл иногда называют «Времена года», нет никаких свидетельств, что именно так он и задумывался. Единственное документированное упоминание о происхождении произведений относится к 1566 году — через год после их создания они были внесены в список картин, принадлежавших купцу из Антверпена по имени Николас Йонгелинк, причем не по отдельности, а как серия работ под общим названием «De Twelff maenden» — «Двенадцать месяцев». Если верить этому списку, а также предположить, что на каждый месяц приходилось по картине, то не хватает даже не одной, но большего числа картин.
Читать дальше