По прибытии в Меттре я сперва был помещен в изолятор, меня увели туда, чтобы сиять одежду, в которой я пришел из прошлой жизни. Чуть позже я сказался в одиночной камере, маленький, несчастный, закутанный в одеяло, и, скорчившись в углу, читал надпись, выцарапанную ножом на половице паркета: «Это я, Пьетро, изверг и душегуб», сквозь стены до меня доносился чеканный стук тяжелых сабо, этот звук производили сорок или шестьдесят маленьких ног, все в цыпках и ссадинах. Журналисты и писатели рассказывали о том, как самые непокорные колонисты ходят на прогулке по кругу. А еще о любви колонистов, которая влекла их, бросала в объятия друг друга, и горячечная страсть становилась еще неистовей от отчаяния и безнадежности, от того, что они были лишены семейной привязанности и нежности. И пусть суровость сверкала в глазах и вырывалась из губ, они не переставали быть несчастными детьми. Провинциальные трибуналы, приговаривавшие и к нашей Колонии, собрали здесь множество негодяев со всей Франции. Ла Рокетт теперь — женская тюрьма. А когда-то это был монастырь. В ожидании дня, когда нам придется предстать перед судом, мы помещались сюда, по одному в узкую камеру, которую покидали лишь на один час в день, выходя на прогулку. Во дворе изолятора мы молча ходили по кругу, так же как и в карцере Меттре, как здесь — в Дисциплинарном зале. За нами наблюдал надзиратель, похожий на здешних охранников, и у каждого из них — своя причуда: Головешка всегда жмется к стене, как чесоточная кляча, Толстяк при разговоре крутит тощий ус, Пантера обычно разговаривает очень тихо, но один раз в день принимается орать, как громобой, и орет одно и то же: «Шагомм… арш! в казарму!» Чтобы вернуться к себе в камеру, заключенный не мог просто выйти из строя, он должен был дождаться, пока стоящий перед ним мальчишка отправится в свою и будет там заперт, но, несмотря на эти меры предосторожности, мы все обзавелись приятелями-любовниками. Скользя по нитке из окна в окно или с помощью какого-нибудь подкупленного шныря — в дверь, проникали наши любовные записки. Мы все друг друга знали. Когда в Меттре появлялся новичок, он сразу предупреждал: «Такой-то будет здесь через два месяца». И мы его ждали. В Ла Рокетт мы все ходили к мессе, и капеллан простодушно зачитывал нам с амвона письма бывших заключенных, наших товарищей, уехавших кто в Меттре, кто в Эйс или Бель-Иль, и от него-то мы и узнавали, где были Бебер Дафер, Черный Джим, Лоран, Мартинель, Бако, Деде Жавель… все эти воришки, многие из которых жили за счет жен-проституток. Пока это были так, мелкие сявки, но даже короткий срок пребывания в Колонии преображал их и превращал в настоящих воров. Они довольно быстро утрачивали свой разгильдяйский вид зеленой шпаны. Им нужно было стать «крутыми», и эта крутизна оставалась с ними навсегда.
И только гораздо позже жизнь смягчила и усмирила резких колонистов, и, став ворами, они утратили суровую непримиримость детства. Все воры обладали мягкостью, на которую мы были еще не способны. Тем же утром Лу спросил у вора, одного из самых влиятельных в общине, у Велура:
— Корочки не найдется? (Я уловил нотки смущения в голосе кота и отметил неуверенность его жестов, достоинство, с которым он обычно держался, изрядно пострадало от унижения, что сопровождает, как правило, любую просьбу. Лу не хотел показаться ни слишком холодным, ни чересчур робким, и голос его предательски дрожал.)
Велур покопался в сумке и достал кусок хлеба:
— На, возьми сколько хочешь.
— А взамен что?
— Да ничего, возьми так. — И отошел, улыбаясь.
Все эти мелкие воришки и опытные коты знают друг друга в деле, а не понаслышке, у них все имеет свою цену. Это в самом прямом смысле слова — деловые люди.
Меттре сделал нашу душу суровой, но щедрой.
Мы ждем здесь наших друзей, но мы знали их еще раньше, на гражданке, а еще в Меттре, в Аньяне, в Эйсе, в Сен-Морис… Так Аркамон познакомился с Дивером в Меттре, а потом встретился с ним на Монмартре, где они, объединившись, совершили не одну кражу. Пора, наконец, объяснить эти странные отношения между Дивером и Аркамоном. Дело в том, что Аркамон был уже трижды осужден за кражу, значит, за четвертую ходку он подлежал бы ссылке, и тут Дивер настучал на него, и его осудили-таки в четвертый раз. Трибунал приговорил Аркамона к ссылке, то есть, в нашей ситуации, к пожизненному заключению. Так значит, именно из-за Дивера он ожидал теперь смертной казни. Странно, что когда я узнал об этом, то не почувствовал к Диверу никакой ненависти. Мне хотелось взять на себя часть его тайны, с тем чтобы сделаться как бы его сообщником и наслаждаться вместе с ним этим острым ощущением: чувствовать себя причиной величайшего на свете несчастья. Я познал радость довольно редкого свойства, потому что вдруг исчез смутный, давно терзающий меня страх. Я был счастлив с Дивером, я счастлив до сих пор каким-то беспросветным, тяжелым, удушливым счастьем. Обезумев оттого, что так и не смог обладать Булькеном, я отчаянно предаюсь своим прежним Любовям, позволяя им увлечь себя в самые запретные зоны. Ведь если Пьеро меня поцелует, я смогу поверить в его любовь. Все на той же лестнице и даже на том же ее повороте, который стал уже совсем нашим, он быстро коснулся губами моих губ и хотел было тут же ускользнуть, но я успел удержать его за талию, перегнуть назад и, запрокинув его голову, поцеловать, чувствуя, что пьянею от любви. Это случилось на шестой день нашего знакомства. Именно этот поцелуй я часто вспоминал ночами.
Читать дальше






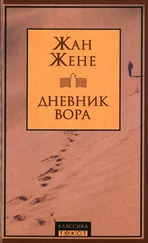


![Жан Жене - Влюбленный пленник [litres]](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-thumb.webp)
