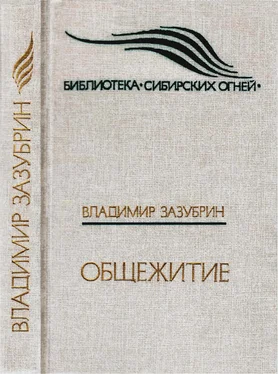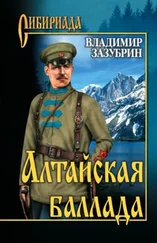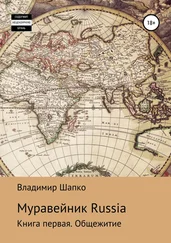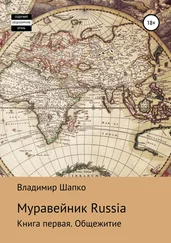Аверьянов подписывал после и безусловно не знал — ему их подсовывал Латчин.
Квартирная хозяйка выдумала близость Аверьянова с Ползухиной, Аверьянов только избил Ползухину за то, что она не пошла в ГПУ, обманула, оскорбила его и т. д.
Воскресенский, к концу речи устав, вытирает с лица пот, сбросил пиджак, остался в белой рубашке.
— Кончая, я скажу, товарищи судьи, одно в этом деле есть, ярко сказались наши ведомственные трения, ведомственная заскорузлость, формализм, неправильное, узкое понимание ведомственных интересов. Есть хищения, есть все, что хотите, но только нет виновности Аверьянова; если бы Губэркаи, следователь и прокуратура понимали, поняли, что они и учреждение, руководимое Аверьяновым, части одного целого — Советской республики, а не враждующие, взаимно топящие друг друга стороны, то они проявили бы в этом деле больше вдумчивости, больше добросовестности.
Председатель остановил Воскресенского.
— Прошу не касаться того, что не относится к делу.
Воскресенский махнул рукой:
— Хорошо. Я кончаю… тогда бы Аверьянов не был под судом, но я надеюсь, вы исправите ошибку судебного следствия: вынесете моему подзащитному оправдательный приговор.
Зуев обернулся к Кашину.
— Как, по-вашему, акт-то Губэркаи… А? Подмочил его Воскресенский? Пожалуй, Аверьянов уж не так… А?
Кашин промычал неопределенно:
— Да, тут что-то есть. Тысяча шестьсот пудов — это сюрприз. Пожалуй, сто десятой не будет.
Речь своего защитника Аверьянов слушал и понял. Аверьянову было немного неловко и стыдно, что защитник так его хвалил, но и в то же время осознавал, что это необходимо, необходимо окончательно показать и доказать суду и всем, что он не вор, что он работал так, как мог, как умел, работал неплохо. Аверьянову показалось, что Воскресенский это именно и доказал неопровержимо: Аверьянов тепло посмотрел в сторону взволнованного, вспотевшего Воскресенского, кивнул ему головой.
И улыбкой, лучистою зеленью глаз, огненной, всклокоченной гривой волос, всей своей неуклюжей зелено-рыжей фигурой ломая лед торжественности судебного заседания, Аверьянов встал, чтобы сказать свое последнее слово:
— Товарищи!..
Аверьянов судей не называл судьями; к концу судебного заседания он думал о них просто как о товарищах и свое пребывание на скамье подсудимых считал вполне установленным, выясненным недоразумением .
— …Мне говорить нечего; мой защитник — я его не подкупал, денег ему не платил, вы мне сами его назначили — мой защитник сказал всю правду; хвалить я себя не буду; я скажу только вам, что к моим мозолистым рукам не пристала ни одна народная копейка.
Аверьянов поднял, показал судьям свои длинные, жилистые, корявые руки…
— …Руки и совесть у меня чисты, а говорить много я не умею, нет в голове столько фантазии, сколько у следователя, у обвинителей и защитников.
Аверьянов помолчал немного; корявыми, негнущимися пальцами, как граблями по соломе, провел по волосам, и тихим голосом, с глазами, опущенными вниз (опущенными, чтобы не видно было слез), как кому-то близкому, родному, с болью пожаловался:
— Устал я, товарищи, соскучился в тюрьме без работы…
Замолчал, сел, закрыл лицо огромными, жесткими ладонями.
Зуев зашептал Кашину:
— А знаете, правда иногда бывает очень бледной. Ведь Аверьянов не виноват…
Кашин твердил свое, бледнел, волновался:
— Тут что-то есть, что-то не так…
Поздно ночью судьи ушли за кулисы в уборную актрис, в совещательную комнату. Подсудимых увели в тюрьму. Ушли одни, увели других, чтобы расстоянием, дверями разорвать, разрезать то невидимое, но крепкое, что связывало судей и подсудимых в единое целое.
Судьи ушли в тьму кулис, в полумрак, в тесноту, в духоту уборной актрис, чтобы не видеть глаз, лиц тех, кого нужно осудить, чтобы в табачном дыму, в копоти керосиновой мигалки, в запахе дегтя и пота на белой бумаге, черными чернилами написать кроваво-красное слово — расстрелять. Чтобы написать это слово перед рассветом, когда красные от бессонницы будут глаза, когда глаза будут утомлены и, следовательно, не увидят, что слово , чем бы ни было написано, всегда кроваво-красное , что за ним всегда кровь, расколотый череп, мозги, черная яма, черная сырая земля. Чтобы не понять, что слово это , написанное на бумаге, — беззвучно , но беззвучно как порох, по бумаге же рассыпанный и таящий в себе гул взрыва, огонь и дым…
В день объявления приговора утром Зуев встретил Кашина на улице; в суд пошли вместе; Кашин был бледен.
Читать дальше