Тина тоже, как на аэродроме выяснилось, почти не спала; чувствовала себя отвратительно; c остервенением катила за собою чемодан на колесиках, тащила, на покатом плече, фотографическую тяжеленную сумку; помочь себе, по обыкновению своему, не позволила. А франкфуртский аэродром мучителен, бесконечен; с бесконечными, мучительными переходами – никуда ниоткуда и посреди ничего, – бесконечным бегом по самодвижущимся дорожкам, до и после досмотра, всегда оскорбительного, мимо модных лавок с никому не нужными аксессуарами миллионерской глянцевой жизни, мимо мерзких кафе с космическими ценами и отравной едой, в искусственном мире, в неоновом свете; от чемоданов мы избавились – от сумок и недосыпа избавиться не могли. Она вчера виделась… с кем? Она весь вечер провела вчера… с кем же? С Бертой… если я помню; она мне когда-то рассказывала… Я помнил, еще бы; на мгновение замер в нашем беге по самодвижущейся дорожке, в стремлении к недосягаемому, самому дальнему выходу на посадку. Она просто старуха, говорила Тина в запыхании ярости, не прекращая своего и нашего бега; просто мерзкая, канадская, американская, канадско-американская сделанная старуха, произведение косметического искусства, в ужасных, искусственных, подтяжками и лифтингами порожденных морщинах; страшная, страшно стервозная, американско-канадская, отвратительная старуха; она во Франкфурт приехала оформлять немецкую пенсию. И она сама не знает, Тина, какого черта с ней встретилась, вовсе незачем им было встречаться, да никогда они больше и не будут встречаться, да и улетит эта Берта в свою Канаду, и пускай улетает, а все-таки весь вечер просидели они друг с другом, и только гадости друг другу и говорили, лучше сразу бы разбежались в разные стороны, а вот не разбегались, весь вечер сидели, говорили друг другу гадости, и после этого она, Тина, разумеется, не спала, глаз вообще не сомкнула, и если не поспит в самолете, то уж и не знает, что будет; в полном ошалении, короче, плюхнулись мы каждый в свое, для нас обоих слишком узкое кресло. Но ничто не сравнится со взглядом сверху на эти всякий раз и при всяком новом полете неожиданные облачные поля, эти не для человеческих глаз, но для ангельских стоп предназначенные млечные россыпи… В не меньшем ошалении прилетели мы в Лиссабон, где, по глупости и равнодушию к прогнозам и проказам погоды, предполагали застать южную весну, южное солнце, цветение всего, чему полагается южной весною и под южным солнцем цвести, где, уже сходя с самолета по трапу, обнаружили тяжело-влажную духоту, перемежаемую, но удивительным образом нисколько не нарушаемую порывами сильного, резкого, тоже влажного, даже душного, при этом холодного ветра, и какие-то неестественно низкие, мрачно-мохнатые и клокасто-клыкастые тучи, мечтавшие ливнем обрушиться на несчастных новоприбывших.
Я несчастным себя и чувствовал; еще чувствовал, что засыпаю; что эти низкие тучи, эта тропическая влажность повергают меня в окончательную сонливость; едва не заснул, в самом деле, в машине милейших хозяев снятой нами квартиры – смуглого господина с седою бородкой и смуглой дамы с собранными в пучок черно-белыми волосами, – встретивших нас на аэродроме, смешно обрадовавшихся, когда выяснилось, что с английского можно перейти на французский. Все налетал ветер; налетал, действительно, дождь; когда мы вышли из дому, дошли до метро – мы жили в десяти подземных минутах от центра – и потом, когда вышли из метро в Байше, пошли по узкой улице вниз, потом вверх, по другой узкой улице, в светящихся витринах, отраженьях на тротуаре, – выяснилось, что Лиссабон весь выложен мелкими почти белыми камушками, не знаю, подпадающими ли под понятие булыжник или брусчатка , но точно подпадающими под понятие каток , когда смочит их небесная влага. По-прежнему засыпая, скользил я на этих камушках, на этих отраженных витринах; вот-вот, казалось мне, я упаду; Тина тоже хватала меня за рукав. Даже туристов почти не было под этим дерганым, залихватским, заливавшим нас со всех сторон, и сверху, и сбоку, дождем. Мы вышли, наконец, на прямую пешеходную руа Аугуста, где отыскалось все-таки несколько косимых ветром, как и мы, странников, любителей экзотических городов, искателей фотографических впечатлений; в сиреневых сумерках открылась нам торжественная площадь с перебегавшим ее маленьким желтым трамваем, выложенная на сей раз квадратными и большими, но столь же скользкими плитами, еще лучше, чем всякие камушки, отражавшими разрывы клокастого неба, их затихающее свечение, вспышки светофоров, мерцание загоревшихся фонарей; на берегу взвихренной Тежо, океанской необозримости, где только совсем молодые, несгибаемые туристы, мне показалось, что из Хорватии, хохоча, снимали друг друга на свои айфоны, смартфоны, стояли мы, впервые всерьез, пусть во сне, обсуждая, что делать дальше. Была географическая ирония в открывшейся перед нами безмерности; казалось, что океан от нас слева, там, где другого берега не было видно, видны были только далекие, мечтательные огни в своем собственном сне куда-то уплывавшего парохода; мы знали, однако, что океан не там, что он справа, нам не видимый, соединяемый речной горловиной с этой на глазах темневшей безмерностью, которую одни считают бухтой, другие эстуарием Тежо, и которая, чем бы ее ни считать, словно ставила под вопрос и сомнение наши мысли и наши планы, как это всегда делает неохватное, неподвластное взгляду пространство.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
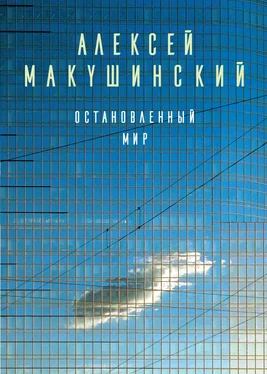

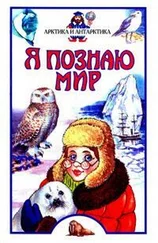




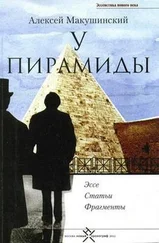


![Алексей Макушинский - Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres]](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-thumb.webp)

