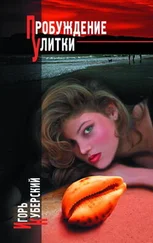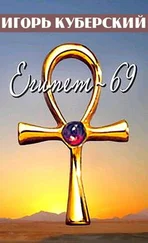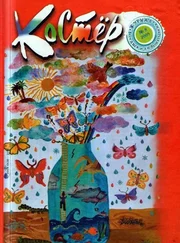– Ты уже вернулся. А я димедрол выпила. Умираю, спать хочу, – и тут же ровно задышала мне в ухо, щекоча мне щеку своими тонкими густыми волосами.
У нее был странный надтреснутый голос, она как-то по-другому пахла, и вообще была другой. Не шевелясь, а только скосив глаза, я посмотрел на ее слабо обозначившийся во тьме лик, в глубоких черных тенях, и чуть не вскрикнул от ужаса. Это была не она. Вернее, она, но лет на двадцать старше. Это была ее мать.
Первым моим импульсом было желание бежать не глядя. Но шок прошел, и лежа рядом с этой спящей женщиной, я сообразил, что никто не мешает мне уйти тихо, без шума, а может, и вовсе не надо уходить, по крайней мере, в данную минуту, когда ее рука так хорошо лежит на мне, так ласково и безоглядно, так нежно и простодушно, как на любимой игрушке, которую еще с детства привыкли брать с собой в постель. Видимо, здесь любили друг друга, и это ложе было ложем растянувшихся на многие годы радостей, так что даже я, сексуальный бомж, почувствовал накипающие слезы умиления. Самое удивительное, что в те стремительные минуты я ни разу не подумал о Ларисе, она вдруг как бы исчезла, заслоненная своей матушкой, – и мне было почти все равно, что там происходит с ней, бедной Офелией или Жизелью, собирающей водяные лилии на ночном озере своих русалочьих упований.
И тут мой орган толчком встал и затрепетал от нового, еще не испытанного мною вожделения. Закройте глаза пуритане, ревнители постной нравственности, блюстители пресной морали, порвите с негодованием эту страницу, наберите номер телефона в Государственной Думе, Совете Министров, но лучше всего – в Комитете по охране детства и материнства, и донесите на меня, ибо я хочу то, чего хотеть нельзя – собственную мать, а если нельзя собственную, то просто – мать, пусть это будет мать моей бедной подружки, которая ведь когда-нибудь тоже станет матерью, чтобы я ее наконец захотел, как я хочу ту, которую нельзя, потому что нельзя никогда... Потому что это NEVERMORE, этот вороний карк, и есть именно то, чего я хочу и с чем никогда не смирюсь, слышите?!
Я осторожно освободился от руки, смирно, неведующе лежащей теперь рядом с моим вздыбившимся желанием, от этого шелкового, тяжелого, не слишком упругого, скорее податливого бедра, которое успело пригреть меня так, что я почувствовал здесь свою надобу. И неважно, что меня принимали за другого, неважно, что любили не меня, – это все неважно, потому что в конечном счете именно я тут любил, был внутри, растворялся, плакал, вспоминал, воспарял и падал, чтобы снова воспарить. Она была похожа на осеннюю осиновую рощу, тронутую первым инеем, который, растаяв под солнцем, омыл влажным блеском всю эту трепещущую листву, – да, трепет, шелест, вздох и невнятное горловое „о“, словно голос горлицы издалека, из-за желто-оранжевых крон, за которыми словно ангелы-хранители стоят синие сосны. Нет, она так и не проснулась, она отдалась во сне, как умеют лишь немногие, и мое счастье едва ли длилось дольше двадцати пяти минут – по числу данных мне лет в этой жизни, но это были лучшие минуты, лучшие, я повторяю это слово, каких больше не было никогда, да и быть не могло, потому что такие обстоятельства не повторить, – они случаются по провидению божьему, по его замыслу, лишь раз в жизни, чтобы мы хотя бы однажды могли понять сами себя, определить свои горизонты и масштабы, увидеть свои чувства отраженными в зеркале вселенной и обрести наконец свое жалкое забитое „я“, загнанное этими дуроломами типа Фрейда в самые темные штольни нашего подсознания.
Только однажды она вдруг резко открыла глаза, словно пытаясь рассмотреть меня в темноте, но тут же бессильно закрыла их, тихо благодарно пробормотав: „Какой ты нежный сегодня“.
Прошло еще полгода, и Лариса мне позвонила. Сказала, что у нее жених, что она через месяц выходит замуж и что „это“ оказалось не таким уж и болезненным, просто мне надо было быть порешительней. Еще она сказала, что по-прежнему мечтает переспать со мной. Я согласился. В назначенный день я пришел на ту же Машину квартиру, Лариса разделась и первой легла. Я уже снял с себя брюки, поглядел на нее, лежащую в позе начинающей жрицы любви, снова оделся, сказал ей: „Прости меня“, – и ушел.
Не думаю, что она меня простила.
Кстати, о Некрасове.
Помните?
Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился, поля опустели.
Только не сжата полоска одна,
Грустную думу наводит она.
Дальше там какая-то ботва про тяжкую крестьянскую долю.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу