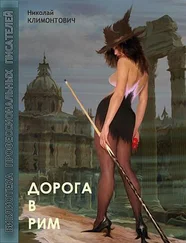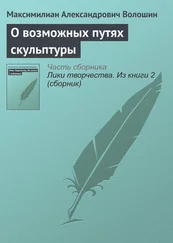Тогда это был мандариново-мимозный земной рай, мечта озябшего жителя северной метрополии: чайки, колыхающиеся в струях воздуха, идущих от студенистой морской воды; женщины как одна в черных чулках и с опущенными долу глазами; кучки бездельников, прохаживающихся по набережной или галдящих на гортанном наречии, сгрудившись в одном месте; старики на скамейках вдоль променада.
Я был юн. Впрочем, тогда я сказал бы о себе, что — молод, но теперь понимаю, что был юн, очень юн. Поселился в гостинице окнами на море, мечтая опровергнуть расхожее мнение, что в этой кавказской провинции нравы чопорны и ни в какую не найти веселую и нестрогую девушку, скрасившую бы командированному дни постоя. И ждал аудиенции у одного полоумного профессора-математика, ради интервью с которым и был прислан редакцией.
Сначала математик отказывался меня принять и не помню уж какие мои аргументы растопили лед. Потом жена профессора объявила по телефону, что у ее мужа неважно с сердцем, и придется отложить встречу на пару дней. Ночами я сражался в своем интуристовском номере с полчищами мышей, гирляндами висевших на пакете с недоеденным хачапури и оглушительно шуршавших целлофаном в темноте. Днем бродяжничал, шатался по набережной, пил кофе по-турецки, — тогда здесь было много кофеен, где к обжигающему густому кофе подавали ледяную минеральную воду, — и совершал познавательные экскурсии — в ботанический сад или в обезьяний питомник. Заключены в питомнике были, кажется, шимпанзе, и сквозь изгородь привольного вольера можно было наблюдать, сколь мудро устроена обезьянья половая жизнь: косматому клыкастому самцу принадлежало большинство самок, боровшихся за право выбирать из шевелюры повелителя блох. Когда жители разрушили свой прелестный город с применением современного стрелкового оружия, обезьяны в смятении разбежались по окрестным горам, и, надо полагать, были неприятно поражены полным отсутствием там банановых зарослей.
Профессор некогда жил в столице, занимался небесной механикой и вошел как-то в моду, опубликовав статью в популярной газете о том, что, мол, если и есть кроме нас обитатели в космосе, то, чем тратиться на сверх совершенные радиотелескопы, следует здесь, на земле искать их следы. Шаг был неосторожный; профессора немедленно принялись сживать со свету, — предмет не был освещен в партийных документах, но о статье много говорили, причем какой-то польский еженедельник объявил автора человеком года. Математик был характера кабинетного и нервного, из запуганного поколения, вдобавок еврей. Он — это выяснилось потом из наших с ним бесед, столь проникся профессор ко мне доверием — когда-то учился в хедере и свои умозаключения строил во многом на знании древних книг, утверждая, к примеру, что описание Иезекиилем херувимской колесницы — ни что иное, как свидетельство очевидца полетов над Халдейским царством инопланетных кораблей.
Здесь стоит напомнить, что, во-первых, в те профессорские годы все сведения о летающих неопознанных предметах считались стратегическими и были засекречены, во-вторых, по иным причинам, но был засекречен и Ветхий Завет, а заодно и сам Господь Бог. Так что, пусть и из самых благих познавательно-материалистических намерений, математик нарушил сразу два табу, которые, если вдуматься, сводились к одному всеобщему запрету на заглядывание без допуска — в запредельное. Так или иначе, но профессор, с ужасом осознав свое падение, получил инфаркт, а, оправившись, бежал без оглядки и по рекомендации врачей осел в этом южном городе, где стал заведовать вычислительным центром в местном исследовательском институте. О пришельцах из космоса, про которых, по его убеждению, он так много знал, математик никогда и ни с кем больше не говорил, и не в этом ли причина, что, наконец, предчувствуя, что жить осталось недолго, разговорился со мной, человеком молодым и случайным.
Впрочем, это произошло не сразу, далеко не сразу, и прежде чем я переступил порог его дома, прошло немало дней безделья — в раздумьях о доступных девушках и иных обитаемых мирах. Как это и бывает обычно — разом густо, разом пусто — я познакомился и с ним, и с вполне подходящей девицей в один и тот же день, с малым промежутком. С утра профессорша сообщила мне, что ее муж согласен меня принять после обеда. В три часа я отправился на окраину, где располагался институтский городок, у меня было время осмотреть научные корпуса и прикинуть, что пленные немецкие ученые, ради которых некогда и была организована шарашка, в общем-то неплохо устроились, — и ровно в четыре позвонил в дверь.
Читать дальше