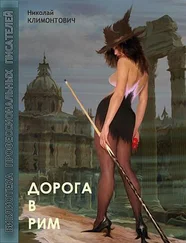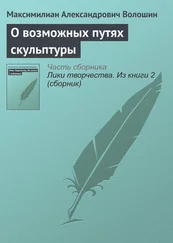Остановимся на минуту, я переведу дух. Не знаю, описать ли, вернувшись назад, как по ночам мы покупали в Бибирево водку у цыган и использовали милицейские машины в качестве такси — и то и другое вызывало у Анны изумление и восторг, — или, коли прыгнул вперед на два месяца, припомнить склизкий ленинградский декабрьский денек, хлипкий и смутный цвет неба и воды, когда мы, бездомные и промокшие бродили по призрачному городу, и никто не хотел нам подсказать расположение консульства — ни дворник-ассириец, бородатый и кривоглазый, ни пьяная молодая еврейка, выкрикивавшая что-то из Страха и трепета, ни молодой негодяй с серьгой в левом ухе и жирными русыми волосами, забранными в косицу, пытавшийся нам продать Данте в отличном состоянии ин фолио, — и Данте нас особенно рассмешил, хоть и над этим знаком впору было призадуматься. Мы были беспечны, глупо, влюбленно и пьяно, но даже в беспечности этой, если оглянуться, была торопливость и судорожность, — еще бы, опасность была разлита в сыром воздухе, и мы глотали ее как старку, и спешили, спешили, спешили будто могли от опасности убежать — убежать здесь, в сердце одной из двух великих держав, которым принадлежали и которые несколько десятков лет только и пеклись, как бы им ловчее одна другую уничтожить. Тем естественнее прозвучало ее предложение среди мглистой бесприютной ночи, когда мы укрылись от ветра под глыбой темного Исаакиевского собора: предложение себя и свободы. Я мог бы увидеть в этом лишь женское движение, материнское желание приютить обиженного, христианский жест пригреть гонимого, но сколь ни был я пьян и спутан, я мигом понял, что она именно предлагает мне быть ее мужем и отныне защищаться вместе.
Мне тем более легко вспоминать пустяки и подробности нашего питерского рождественского вояжа, обернувшегося — так вышло — нашей помолвкой, хоть со времени знакомства не прошло и двух месяцев, что после я имел возможность мысленно бродить с ней сколько угодно по промозглому городу в пропитанных влагою дневных сумерках — вдоль и поперек, — и в те полгода, что прошли до ее следующего появления в Москве, и потом, когда она окончательно исчезла из России, но не из моей жизни, ибо тогда, в июле, визу ей дали в последний раз. Конечно, нам следовало бы вести себя по-партизански, лелея свой дерзновенный план: мне бы тут же исчезнуть, чем что ни ночь спать с ней в одной постели в ее номере, давая взятки дежурным, ей бы — напустить на себя строгость, чем целоваться со мною за праздничным, общим с ее студентами столом в вечер Рождества — под шампанское, под недоуменными взглядами приставленной к группе стукачки-переводчицы, под треск бенгальского огня. Но если б мы не были упоены друг другом, не праздновали бы так шумно свое воссоединение, не умели наслаждаться именно этой своей свободой в столь неподходящих, на взгляд, обстоятельствах, то были бы не мы, не два дилетанта, как писала она мне потом под впечатлением, видимо, Окуджавы, но пара угрюмых заговорщиков, втайне вынашивающих индивидуальный проект детанта. Мы же чувствовали себя пред Богом безгрешными, как дети, как два очаровательных юных педераста, Шурочка и Николка, — они что-то рисовали или сочиняли, вполне необязательное, — которые вызвались на другой день быть нашими ленинградскими гидами.
Причудливая это была компания: мы с Анной, которая в своей шубке на фоне грязного и разваливавшегося на глазах некогда помпезного города казалась герцогиней, и двое херувимов, один маленький, в зипунчике, тесно подпоясанном ярким кушаком, и в кирзовых сапогах, другой высокий и чернявый, в длиннополом черном развевающемся пальто, взятом не иначе как на помойке. Мы путешествовали вдоль каналов, полных ржавой дребезжащей воды, мы бродили по вонючим рынкам, заглядывали в богатые, пышащие свечами и позолотой церкви, исследовали некогда парадные подъезды с чудом сохранившимися причудами в стиле арт-нуво, слонялись мимо складов и пакгаузов, — Бог знает отчего, но все нам казалось восхитительным, — пока не пришли на незабвенный вокзал, откуда некогда шла первая в России железнодорожная ветка в Царское село. Мы уселись в ресторане под царским витражом напротив невероятной, резного дуба, огромной буфетной стойки — говорят, ее давно уже нет на свете, — пили дрянную водку, закусывая сосисками со жгучей горчицей и задубелыми бутербродами с тоненькими корками красной икры, и были счастливы. Помнишь, Анна, этот день? К вечеру, когда в зале зажгли огромную люстру, мы решили всей компанией ехать танцевать в валютный бар гостиницы Ленинградская. На привокзальной площади мы обнаружили кабинки для мгновенного фотографирования — в Америке это называется фотомат; мы с тобой втиснулись вдвоем, опустили монету в прорезь, и, кто знает, может быть в твоей вашингтонской квартире, в доме за углом от улицы Адамс Морган, завалялись где-нибудь эти фотографии, получив которые, мы хохотали до слез: два тесно прижатых одно к другому, скошенных, раздутых по диагонали, пьяных счастливых лица — твое и мое…
Читать дальше