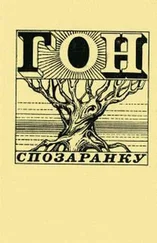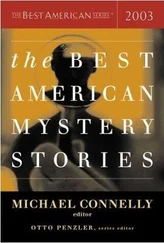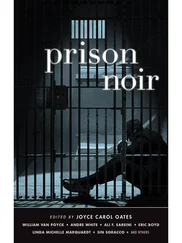Между вспышками «напасти» проходило то шесть недель, то три месяца, а то и целых пять. При этом вспышки странного заболевания не были связаны ни с общим состоянием, ни с состоянием здоровья, ни с поведением ребенка. Не важно, «хороший» в тот момент он был мальчик или, наоборот, «плохой», – на периодичности обострений болезни это никак не сказывалось. Недуг, грызший ребенка, жил, казалось, повинуясь исключительно своим собственным, никому не ведомым законам. Зато эти штучки – прыщи, нарывы и фурункулы – принадлежали ему одному. Со временем пришло осознание, что он такой один – немощный, а снедавший его недуг по странной прихоти судьбы никак не затронул знакомых ему ребят. Болезнь и в семье никого не затронула – за исключением дядюшки. Мальчик пришел к выводу, что свою немочь надо держать в тайне и не рассказывать о ней ни единой живой душе, поскольку иметь такой недуг не только неприятно, но и стыдно. Родители тоже хранили по этому поводу полное молчание – даже к врачу его больше не водили: им не хотелось, чтобы по округе пошли сплетни, будто у них «гнилая» кровь, которую они передали по наследству своему ребенку. Когда ему было девять лет, он уже умел избавляться от этих штучек без посторонней помощи. В одиннадцать он, хотя и испытывал страдания при вспышках болезни, научился их скрывать, старательно делая вид, что недуг донимает его уж не так сильно. Со временем он пришел к выводу, что родители ни в чем не виноваты и не имеют никакого отношения к постигшему его проклятию – как, впрочем, и он сам. Если в этом и крылась чья-то вина – его ли, их ли – то раз он не имеет понятия, в чем она заключается, то и обвинять в этом некого. В двенадцать лет его отослали из школы домой, решив, что у него корь, хотя на самом деле это было началом новой вспышки болезни. Он заперся в ванной и, вооружившись ножницами, стал вскрывать еще не успевшие созреть розовые новообразования, надеясь подавить приступ в зародыше, но они появлялись быстрее, чем он успевал с ними расправляться. Пульс учащался, он начинал ощущать первые признаки лихорадки, и в то время, как он рыдал от обиды и боли, в ушах его зазвучал голос: Ничего не поделаешь! Ничего не поделаешь! Все чувства в этот момент обострились, особенно обоняние; запах крови и собственной разлагающейся плоти сводил его с ума, тем не менее он с новой силой возобновил свои атаки на эти штучки, все глубже вонзая в свою исстрадавшуюся плоть острые концы ножниц. Он до того погружался в это занятие, что поначалу даже не слышал, как стучала в ванную мать, упрашивая его открыть дверь и предлагая свою помощь. Он не хотел ее впускать – он все сделает сам: в конце концов он уже не ребенок и в состоянии о себе позаботиться. Это был переломный момент в его отношении к недугу: тогда он решил превозмочь его собственными силами, как это сделал дядя его отца. Эти штучки – все эти отвратительные на вид прыщи и нарывы были его стыдом, проклятием и болью, но именно они делали его другим, отличая от прочих. Они сделали его обладателем тайны. Когда он в одиночестве бился в ванной со своей болезнью, у него закружилась голова; в этот миг над ним, казалось, разверзлись потолок и небеса и он увидел Господа, громоподобным голосом говорившего: Ничего не поделаешь! Ничего не поделаешь! Ничего! Правда, он был не в силах побороть болезнь, но он мог ей противостоять – смело и мужественно. Дядя его отца показал, как нужно это делать – спокойно и без суеты. По примеру дяди он решил стать врачевателем собственной немочи. А какими любопытными показались ему эти штучки, когда он впервые посмотрел на них без отвращения и ненависти. Это были окровавленные фрагменты тканей и нервов – иногда прозрачные, если взглянуть на просвет, иногда – нет, трепещущие, желеобразные, словно медузы. Некоторые штучки были крохотными, как ноготь ребенка, а некоторые крепко укоренялись в его плоти и выходили из нее неохотно, с трудом, тянулись, как резиновые, достигая подчас длины в семь-восемь дюймов. Повернувшись к зеркалу спиной, чтобы выяснить, как выглядят его плечи и ягодицы, он с шумом втянул в себя воздух: эти штучки сплетались у него на спине в причудливые узоры, образовывали выпуклые барельефы размером с крупную монету, фантастические звездные россыпи всех мыслимых цветов и оттенков. Он, всегда стыдившийся своей болезни, при виде такого разнообразия и пестроты, неожиданно испытал чувство гордости, поскольку все это принадлежало ему одному и никому больше.
Читать дальше