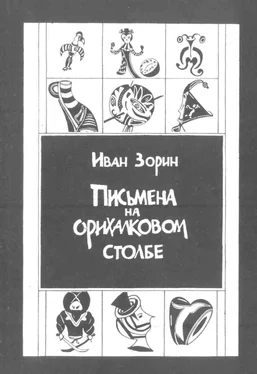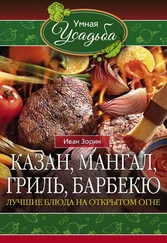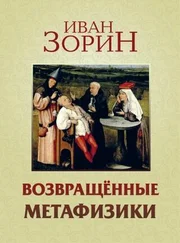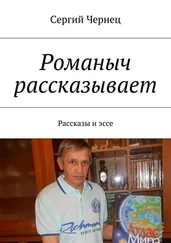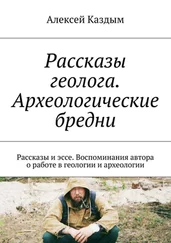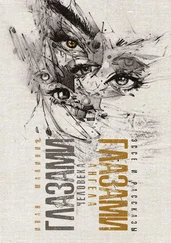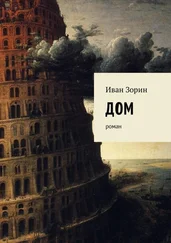Но мелькнувшее в проблеске сравнение так и умерло на стадии эмбриона. Чересчур неуклюжее, чересчур категоричное, чересчур отдающее календарем — творцу недосуг было шлифовать минерал до бриллианта, ибо он снова вернулся к своему chef d'oeuvre миниатюры, как восторженно кричало когда-то его окружение, и к обязанности вербализовать свою меланхолию — злосчастная жертва слов, муха, бьющаяся в их паутине, паук, ткущий их гибельную сеть.
«Вот она, — думал Поэт (или это думала Старость Поэта?), уткнувшись в танец типографских знаков, указателей на дороге его Времени и Судьбы, тире — прямо, запятая — поворот, восклицательный знак — звездный миг (или миг ослепленья?), — вот она — кристаллизация любви, тот идеал, то божественное чучело, которому до самоотверженья поклонялся Стендаль, грустный, утонченный Стендаль, вот она — ветка Ортеги-и-Гассета, корявая хворостина, опущенная в соляные копи влюбленной души и причудливо обросшая там кристаллами совершенства, вот она — его стихотворенная Галатея, слепок прекрасной натурщицы, отображение ее изящества, такое жалкое, такое ничтожное… Да-да, ничтожное, ибо истинная цена слов — ничто, да и цена этой истины для него также ничтожна — всего-навсего жизнь!» Эти мысли породили дрожь рук, дрожь рук передалась книге. Он продолжал сетовать: «За что прокляты люди, для которых любить женщину — и, может, недаром пошляки окрестили это сублимацией? — значит всего лишь любить строки о женщине, в чем вина этих утопших в словах и утопивших в них свою любовь? О небо! — взывал он. — За что прокляты те, кому жизнь предстала суммой ежедневных мыслей — никчемные созерцатели, наблюдающие этот никчемный, давно опостылевший хоровод? За что прокляты те, кто предпочел мечту действительности, — тут у него всплыл термин «бегство», — кто предпочел иную реальность, где царица — воображение, той, чей синоним — необходимость? И что им из того, что эта иная реальность открыта для них везде, что она всепроникающа, как Бог, что она и сейчас со мной — здесь, в желтом доме: какая глупая, жестокая игра, глупая и злая…»
Спотыкаясь и падая, то с хулой, то с мольбой на устах Поэт еще долго бродил в лабиринтах отчаяния, ослепший от невыплаканных слез, оглохший от подавленных стенаний, пока в успокоении не заставил себя подумать, что подвиги дела и подвиги духа будут меряться все же на единых весах, что великий Алия, этот непререкаемый авторитет ислама, конечно, прав, и чернила мудреца столь же священны, как и кровь мученика, что прав он хотя бы потому, что писать кровью можно, только постоянно обнажая затягивающиеся раны («писать кровью» — именно так говорил Заратуштра! — вспомнился Поэту жесткий императив), а потом уже, чуть позже, когда в тигле его подсознания некий древний фригиец переплавился с откровением одной русской поэтессы, он, разрезая скорбь безмолвия, прошептал как-то старательно убежденно: «Прикосновение Мастера обращает сор в золото!» О могущественный, о всеведущий, о искушенный: ты — поэт!
Книга захлопнулась, он сомкнул веки. Повторив заклинание, прислушался к себе. Бесы уныния и сомнений исчезли — теперь они возникли в облачениях гордыни и внутренней болтливости, затеяв беседу, изобилующую парадигмами и ремисценциями — этими ловкими фигаро, этими лакеями лживых ободрений.
«Нет, чтобы быть пророком, мало быть пессимистом, — лукавый голос скривил афоризм в назидательство, — нужно быть еще и упрямым учеником, учеником Чародея, учеником Вечности, нужно закалить себя бесчисленностью попыток. Твое ремесло — твой крест, твой горб, твоя тень. Рембо, которому рука с пером претит не меньше руки с плугом, попросту мальчишествует, ибо, — голос продолжал морализаторствовать, — никто не властен над молнией, удел наш — разложить сучья для костра и ждать. Так советовал Элиот, так до него учили индусы. Умение пребывать в ожидании и не томиться — дар пророка, именно смирение отличает его от нетерпеливых, именно смирение — апогей жертвенности — и есть дар жреца. Жреца религии, искусства или философии. Впрочем, искусство — инакоформа философии, — слова детскими кубиками уже привычно переставлялись им, их комбинации рождали мысли, а те вновь возвращались скользить змеями в извивах языка. Да, искусство — это инакоформа философии. А философия — инакоформа искусства. Философия же и искусство — это формы инако… инако… инако… инако…» Некоторое время он еще упорно ловил окончание: бытия, сознания, мыслия, — пока не открыл глаз и не обнаружил себя среди вещей, которые намного старше их названий, пока не вернулся к реальности — необходимости, пока не уперся взором в решетку, отделяющую боль от серости.
Читать дальше