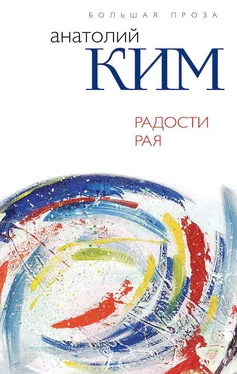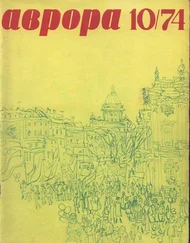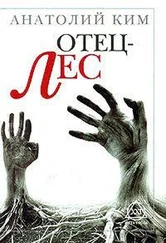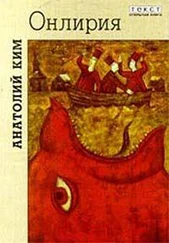— Добро, я вам уже ответил на ваш вопрос, дерзновенный старец и вечный юноша-недоросль Аким. И ответ мой содержался в ваших же словах, которые прозвучали на этом свете, когда я также спросил: зачем вы, Аким, снова и снова возвращались на этот свет, который, по некоторым вашим пассажам, не очень был хорош для вас?
— Как бы я ни проживал свою очередную штуку жизни, — в мезозое ли, в эолите, в неолите, палеолите, в Атлантиде, в Европе или Азии, — я каждый раз уходил из своей одной штуки жизни с огромной обидой на нее.
— Что же это была за обида?
— Я не знал. И в посмертии, находясь в любом раю или аду, я не мог забыть об этой обиде. Тогда и, отбыв свой срок в ином мире, я возвращался вновь назад, — чтобы узнать, наконец, в чем была моя обида.
— И к чему вы пришли?
— Пока ровным счетом ни к чему, Александр Сергеевич. Но вы-то сами вернулись сюда — не за тем ли? С свинцом в груди и жаждой мести… Обидно же было вам умирать, несмотря на всю вашу не соразмерную ни с чем посмертную славу?
— Обида была и на это, вы оказались правы. С жаждой мести… Поникнув гордой головой. Хорошо было сказано. Аким, а вы, случайно, не встречались с Лермонтовым? Ни в этой жизни, ни в Ла-системе я никогда не встречался с ним. Так что даже не представлял, как он выглядел.
— Нет, я тоже везде не встречался с Лермонтовым, хотя в одно из своих мелких существований лет семьдесят проносил Лермонтова в груди, у сердца.
— Соблаговолите тогда объяснить некую свою препозицию, пока проходит — прошла уже минута нашей встречи где-то в катакомбах Москвы…
— Какую, Александр Сергеевич?
— А вот какую… Зачем же вы во всех существованиях, где бы то ни было, пытались высказать обиду на Творца всего сущего, с которою всякая его тварь уходила из жизни? Ведь вы и насчет собственной обиды так и не разобрались, кажется?
— Так и не разобрался. Увы!
— Чего же тогда пеклись о чужих обидах, неисчислимо и намного больших, чем ваши обиды? Какое дело было вам до них?
— Александр Сергеевич, пока я на этой земле мыслил и страдал, мне было обидно за каждую тварь, потому что ни у кого никогда не было ни одного шанса против того, чтобы раствориться без чудовищных мучений, тихо и бесследно, в глаголе прошедшего времени! Ни одного шанса из ста, раз и навсегда, ни за что, нипочем и никогда…
— Что значит никогда?
— Это значит везде и всюду.
— А чего бы не хотелось божьим тварям никогда?
— Этого не подобало им знать, Александр Сергеевич. Им надо было мелькнуть пестрой шкурой, сверкнуть глазом, стукнуть рогами о рога и скрыться за огромным серым валуном.
Маленький курчавый темноликий бомж вдруг потерял всякий интерес к моим занудным — во всех инкарнациях — речам об обиде твари на Творца. Пушкин поднял с крыши, на которой стоял, свои крылья, постучал ими друг о дружку, стряхивая пыль, и одно из них, по имени Борзень, и другое, по имени Зеньбор, нацепил — соответственно порядку, — на левое плечо и на правое. Видимо, у московского бродяги-негра определились какие-то интересы в позапрошлом веке, и он ринулся навстречу своим желаниям вверх по Конюшковской, затем на большом перекрестке сделал крутой вираж влево и ушел в полет по Краснопресненской улице.
Я мысленно простился с ним лет на двести, затем сам тоже нацепил на липучки свои крылья и бросился вдогон своей судьбе, вниз по Конюшковской, по направлению к Берсеневской набережной. У нас с Пушкиным пути расходились, хотя и он был нерусским в русской литературе, и я. Но в Московском архипелаге не имело никакого значения, кто к какой расе или народности принадлежал, — значение имело только то, есть ли в твоей безсмертной душе резервное пространство для любви к чему-то навеки утраченному. А у нас с Пушкиным такого пространства от рождения было навалом: у него — Эфиопия с ее колдунами, у меня — страна Хангук с ее шаманами.
Один из трех волхвов, приходивших с дарами в Вифлеем к Рождеству Христову, был эфиопский маг Бальтазар. Как-то Иисус, который ходил по Корее (Иисус Христос повсюду ходил), встретился с Бальтазаром на горной дорожке у перевала Дирисан. Вернее, не встретился, а споткнулся об него, ибо эфиопский маг лежал на дороге, устроившись поперек нее, и Иисус принял его за упавшую колоду дерева гинкго, коих много росло по краю горной дороги. Господь мой хотел деликатно перешагнуть через мнимый ствол, но тут озорной эфиопский маг вдруг возьми да и приподними одну ногу, и Иисус, бедный, споткнулся об нее и едва не сверзился на землю.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу