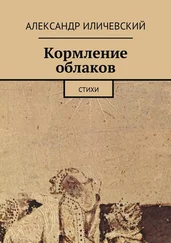— Как фамилия ваша?
— Не помню.
— А то, что Алексеем Сергеевичем зовут, — помните.
— Это я придумал. Чтобы проще.
Я помолчал.
— А что про войну помните?
Старик попробовал что-то увидеть про себя, лицо его задрожало. Он покачал головой, приподнял руку.
— Не хочу. Вспоминать.
Я не унимался:
— А как же помните про то, что летчик, что Берлин на «пешке» летали бомбить? В летчики разве берут людей с вашим ростом?
— Помню только планшет. Курс черчу. Штурвал трясется. Облака, как горы. Земля течет в прорехах. Командир входит в пике. Дает команду. Ложусь на пузо. Дым, город набегает в лоб.
И тут я увидел прямо перед собой, как сначала в параболическом витраже бронированного стекла, потом в крестовике визира — плывет и вырастает ударом в лицо разрушенный город, смятые обугленные квадраты сот, оскал Рейхстага…
И, чтобы как-то занять старика, я решил варить в саду яблочное повидло. Поставил примус, на него таз, в тазу белый налив с сахарными барханами, течет яблочным духом густо в воздух — и пред жужжащим этим алтарем сквозь стекло веранды я вижу: Сергеич воспаряет в кресле, укрытый пледом, листва слагается в светоносный свод, и блик живет на его иссеченной шишковатой макушке; с отвисшей губой, с качнувшейся ниточкой слюны, вспыхнувшей длинно капельным бисером, он тянется к ручке примуса, чтобы подкрутить напор задохнувшегося пламени. Он перенял это движение от меня, полдня безмолвно сидевшего подле него с книгой — и теперь повторяет жест с нелепостью и тщанием младенца. Добавляю в яблоки лимонную стружку, корицу — пряность вспыхивает облачком, дед морщится, жмурится на солнце и чихает, как котенок… Чих для него катастрофа, он еще долго приходит в себя, выпрямляется, мышцы его лица живут в отдельной от времени гримасе, в мире замедленной съемки…
Ночью старик почти не спал. Лежать в темноте, на застеленной полиэтиленом скользкой постели, он не умел — кто бы согласился быть заживо погребенным в потемках? — садился к окну. Что увидишь в ночной темноте сада, какая птица стокрылая нахлынет, защиплет, замашет, забьется по глазам, щекам?.. Я просыпался ночью, различал его профиль, руку у подбородка; засыпал снова, а утром видел в той же позе, смотрящего слезящимися глазами в сад или дремлющего, свесив голову на плечо, вытянув по подоконнику руку… Я подглядывал за стариком, а ведь он и не знал, где он и с кем, и мне это нравилось и пугало: каково жить с неразумеющим тебя существом? Вот эта близость к животному и теплота человеческого мучения в глазах — все это сходилось, как кипяток с ключевой водицей, и голова моя была полна смятенья.
У него была одна задумчивая забава. Старик оттягивал кожу на запястье, полном синих жил. Кожа, пятнистая, дряблая, отходила от кости далеко, долго потом разглаживалась, он смотрел, как сонно распрямляется складка, помогал ей ладонью и снова пальцами медленно щипал себя, снова смотрел на руку…
Старик иногда ходил по саду, все что-то высматривал в кронах яблонь, мог на веранде задремать смирно под тихим солнцем… Но одного его оставлять было нельзя — старик был эпилептиком, как он вообще на дороге выжил? По первому разу я испугался, да и как было не испугаться, хорошо еще я знал, что это такое. Однажды в детстве в поезде дальнего следования я играл с отцом в шахматы, дверь в купе была приоткрыта, в вагонном проходе стоял человек в полосатой пижаме, что-то читал с важно-праздным видом, обернув к мчащемуся в раскачку окну газетный лист. И вдруг рухнул оземь, профиль его, окрыленный затрепетавшими ноздрями, ровнехонько поместился в приоткрытый проем, дядька ужасающе захрипел, застучал затылком, отец взял ложку, сел на корточки, вставил в вспенившийся оскал и аккуратно двумя пальцами поискал что-то во рту. Действия отца я запомнил, наверно, потому, что понял я еще несмышлено, но со всей серьезностью чутья живого звереныша: это важно, что вот тут дыхание смерти, на самой грани уничтожения. И потому двадцать лет спустя я не струхнул, сдюжил, когда перед самым поездом в Феодосии помчался с товарищем на базар, прикупить малосольной хамсы к пиву, помянуть морское лето, спраздновать этап в проклятую любимую Москву. И вот мы носимся в рыбных рядах, взяли то и это, двадцать минут до отправки, и вдруг в толпе падает навзничь мужик, крепыш, с таким грубым крупным картофельным лицом. У меня мелькнуло — ага, зарезали, и даже в сторону метнулся — не попасть под перо, не наступить в кровь, но вижу: затрясся затылком, забурлил горлом, заполоскался слюною. Я у торговки выхватил нож, рукоятка, лезвие в чешуе, присел на колени, все сделал, как тогда отец, и язык в глубине нащупал, и освободил его, потянул вверх, сдавив с двух сторон, тут и под голову ему мешковину сунули; помню шейную складку, щетину, кефалья чешуя горит на подбородке перламутром… В общем, задышал нормально, и уже глаза растуманились, и мы на поезд не опоздали. Когда же мой старик грохался, все сложнее выходило — язык у него был уже ветхий, тряпичный словно, хоть и большой, трудно было добыть его наружу, мне все чудилось, что он совсем уж запал в горло, с концами… Понятно, я заблуждался вслед за отцом — насчет языка: язык вряд ли у эпилептика западет до задыханья, да еще и при спазме прикусить до крови может пальцы, но все равно я делал, как знал, и впредь буду делать так же… После первого раза я был все время на взводе, все время мне мерещилось со стариком что-то дурное, что вот-вот он откинется, но потом не то что привык, но смирился. Если приступ, то присаживался, разнимал, лез пальцами, нащупывал по чуть-чуть в горячей мокроте язык, осторожно вынимал, старался не травмировать…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу