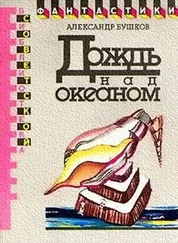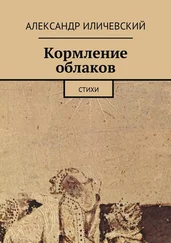2
Несколько вещей вызывали у меня в детстве пронзительную бессонницу. «Крейцерова соната» в исполнении Натана Мильштейна производила мучительные физиологические резонансы, ведшие вразнос, в воронку мозжечка. Не помню, какая скрипичная соната Витал и , взмывшая под смычком Зино Франческатти, представляла собой могучую слезогонку: вся скорбь мира, абсолютно вся, без остатка разливалась в душе. — «Sing, sing, sing» Бенни Гудмена, — «April in Paris» Эллы Фитцджеральд, написанный Владимиром Дукельским, кстати, приятелем Поплавского, — все это составляло предмет сладостных мук. По достижении половозрелого возраста, когда случалось весь день проходить в перпендикулярном состоянии, я точно знал, какие именно джазовые вещи могут запросто вызвать стояк — и старался их избегать. Колтрейн и Кэннонбол Эдерли были первыми в череде запретов.
Послабление наступило гораздо позже, с открытием вселенной Малера, когда в Третьей симфонии Джесси Норманн заставила меня услышать ангелов и умереть наяву.
3
Когда я прочитал у Романа Якобсона, что все его попытки навести структуралистские мосты к семиотическому подходу в музыке потерпели неудачу, я ничуть не удивился. Потому что у меня давно сквозила наивная, но правдивая идея, что музыка — едва ли не единственный язык, чьи атомы, лексемы либо совсем не обладают означающим, либо «граница» между ним и означаемым настолько призрачна, что в результате мы слышим не «знаковую речь», с помощью которой сознание само должно ухитриться восстановить эмоциональную и смысловую нагрузку сообщения, — а слышим мы собственно уже то, что «речь» эта только должна была до нас донести, минуя этот автоматический процесс усилия воссоздания. То есть слышим мы чистый смысл .
4
К виолончели я так никогда и не прикоснулся, зато позже у меня появился учитель фортепиано. Обрусевший армянин, выговором и дикцией ужасно походивший на Каспарова, он был прекрасным строгим человеком. Я приходил к нему в его собственный дом, с курятником и огородом. Его подслеповатая мама, Софья Тиграновна, около года принимала меня за девочку.
У Валерия Андреевича в гостиной стоял драгоценный «Стейнвей», неподатливые клавиши которого требовали изощренного подхода к извлечению звука, — и я пытливо следил за пальцами, за постановкой руки учителя. Когда мне удавалось присутствовать на его собственных экзерсисах («Шопен, никому не показывавший кулака…») — я замирал всем существом, нутром понимая, что это одно из самых мощных творческих действий, которые мне когда-либо приведется увидеть в своей жизни.
Я бросил занятия музыкой, когда — хоть и на толику, — но самым высшим образом приблизился к пониманию природы музыки. Как и все сильные чувства, это мгновение было бессловесным. Я разучивал фрагменты фортепианного концерта Баха («композитора композиторов», как говорил о нем В.А.), я впал в медитацию, провалился, и тут у меня под пальцами произошло нечто, проскочила какая-то искрящаяся глубинная нить, нотная строка, в короткой вспышке которой разверзлась бездна. И вот это смешанное чувство стыда от происшедшего грубого прикосновения к сакральной части мира — и восторженные слезы случайного открытия — все это и поставило для меня точку.
Больше В.А. я не видел. Родителям объяснил, что надоело. Конечно, так поступают только особенно сумасшедшие мальчики (или девочки). И так поступил я, к тому же еще не раз с оторопью представлявший себя, купающегося пальцами во всех сокровищах мирах.
Осязание
Запах пасты шариковой ручки — потекший катастрофой стержень, пальцы вытираются о форменные брюки, синие, как измаранные, ладони, как зимние сумерки уже на втором уроке второй смены. Плюс металлический запах самого шарика — загнанного до белого каленья бесконечным, как Шахразада, диктантом, старательно выводимым носом по крышке парты: клонясь все ниже и ниже, начинаешь этот привкус различать. Не лучшие страницы Паустовского одну за другой, до ломоты и сведения в кисти, мы гнали на галерах продленки под стрекот стартера задерганной до тика лампы. Какой там — «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали», — едва успеваешь тряхнуть на весу авторучкой, как градусником, и вновь строчишь в догонялки за сладострастно уносящейся в декламацию неродной, «продленной», училкой.
Тошный запах мокрой ветоши, размазывающей по доске синтаксический разбор, или пикирующих чаек Фалеса, — вместе с самим этим запахом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу