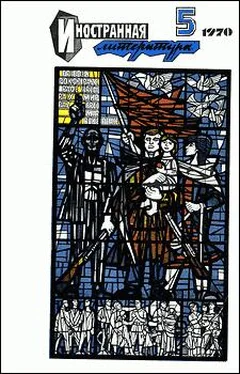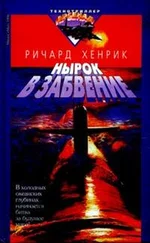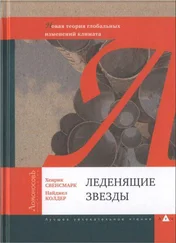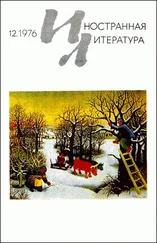«К вам гость», — говорит монахиня в дверях. Мой полицейский — это шестой или седьмой Бухмаер — делает озабоченное лицо, в его инструкции, наверное, ничего не сказано о гостях. Но монахиня уже вводит в палату какого-то человека. «Старина! — говорит вошедший, протягивая мне обе руки. — Я так рад, старина!» По нему видно: он говорит то, что чувствует, и весь светится радостью и удовлетворением. Но кто он? «Это тот, — объясняет монахиня, — кто подобрал вас и доставил сюда».
Мой спаситель. До сих пор еще в моих воспоминаниях не нашлось для него места. Слишком много обломков надо вытащить из развалин памяти, чтобы с трудом соединить их в единое целое. Теперь и эта брешь заполнится. Лунной ночью надо мной склонился человек. «Старина, что с тобой, откуда ты взялся?» Он пытается поднять меня, ничего не получается, бережно укладывает вновь на мягкое, смотрит на свои руки. Что-то живое, влажное у моего лица, взволнованное повизгивание. «Смирно, Ада, пошли!» Удаляющиеся шаги. Что это, неужто оставит меня здесь подыхать! Не крови ли на своих руках он испугался?
«Но ты ведь не мог всерьез поверить этому, старина? Кто же бросает человека подыхать без помощи! Ты что-то бормотал, очень тихо, едва внятно, но я понял: что-то об эшелоне заключенных, о прыжке из поезда, выстреле при попытке к бегству. Я служу на железной дороге, знаю, что за грузы перевозят время от времени по лионскому направлению. Один я не мог тебя перенести, мы вместе с женой втащили тебя в дом. Остаток ночи просидели на кушетке, на нашей кровати лежал ты. Жене потом пришлось немало повозиться, чтобы вывести кровяные пятна. Ты бредил, хорошо, что никто из нацистов этого не слышал. Много сделать мы не могли, только обвязали тебя простыней, все-таки повязка, на худой конец. Требовался врач. Но была ночь, а до шести утра запрещено выходить из дома, в последнее время они стреляют без предупреждения. Около шести я пустился на велосипеде в город, тут всего несколько километров, но дорога вся в колдобинах. У первой же врачебной вывески начал трезвонить. Врач выслушал меня и покачал головой. Не может, не хочет, не смеет. Посоветовал вызвать «скорую помощь» и отправить раненого в больницу. В полвосьмого «скорая помощь» стояла у дверей. В пути, когда мы ехали по изрытой, ухабистой проселочной дороге, ты застонал, кровь толчками стала проступать сквозь простыню, санитар пожал плечами. Рана, сказал он, еще не самое скверное, плохо, когда такая большая потеря крови. Здесь, в больнице, они держались молодцами, ничего не скажешь. Когда тебя выгружали, сразу же пришел врач, сделали какие-то уколы, обработали рану, включили вот эту штуку, говорят, физиологический раствор, в общем все обошлось благополучно, не расспрашивали, кто ты, откуда. Только на успех они мало надеялись. Ну, а ты все-таки выкарабкался. До чего ж я рад, старина!»
Спасибо большое, старина, благодарю тебя, мой спаситель! Но в самом ли деле ты спас меня? Я ведь снова у них в руках, вон там сидит полицейский, мой очередной Бухмаер, готовый, как и первый, стрелять. Кстати, где он? Вышел — из деликатности, наверное. Нет, вот он опять. Распахнул дверь, выглядит совсем иначе, чем прежде, сияет, чуть ли не пляшет, за ним толпятся монахиня, доктор, какие-то люди в пижамах и повязках на голове или на руке, все сияют и говорят, перебивая друг друга. Что случилось, что с ними, чего им надо?
«Они здесь! — кричит мой полицейский, уже совсем не Бухмаер. — Они высадились! Сегодня утром они высадились в Нормандии, на всем побережье, из Англии! Они высадились! Теперь конец бошам, они уже убрались из России, теперь уберутся из Франции, мы свободны — ты свободен, друг!»
Шестое июня 1944 года. Они высадились, наконец-то высадились! Пройдет еще почти целый год, пока победный клич моего полицейского прозвучит для всех, кто остался в живых. Для миллионов павших он раздался слишком поздно. И я в этот день тоже еще не свободен. Нет, в этот день я уже свободен. Свобода — это рывок, это всплеск, это действие, это дерзание. В свободу надо прыгнуть.
■
Из рубрики "Авторы этого номера"
Страница 287 в оригинале отсутствует.
■