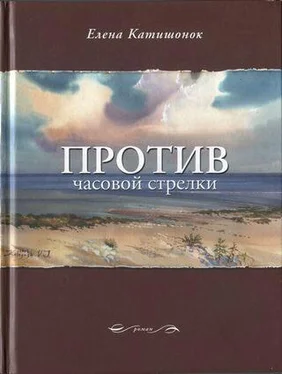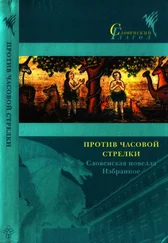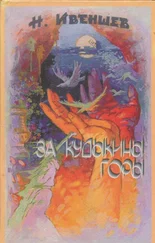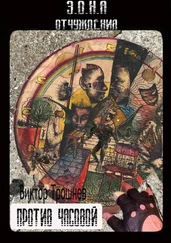…Опамятовавшись от оранжевого пожара, Ира продолжала говорить с мужем и умолкала на полуслове, видя рядом женское лицо. «У меня все Коля мой перед глазами, — она поперхнулась, — рассказываю, как мы тут голодаем». Лицо Немки сделалось неподвижным. Вскоре она поднялась и вышла.
Кто ей была эта Немка? Никто; чужой человек. Да только если б не она, не пришлось бы сейчас о пенсии думать. Тот горький отвар и поставил на ноги.
Да похлебка из колосков.
Нет, есть Ирина не ела: как можно, от детей? Зато председатель несколько раз давал брюкву и картошку, присовокупляя непонятные слова: «В счет трудодней». На ее робкий вопрос: «Это сколько же?..» — никто не мог дать внятного ответа.
Решила спросить у Немки — как раз вместе возвращались из сельпо. Но не спросила, а неожиданно для себя призналась, как пугала ее зимой эта дорога и пустая замерзшая степь вокруг; и про волков рассказала.
— Что ж, — улыбнулась Немка, — молитва помогла или спички?
— Молитва всегда помогает, — ответила Ирина, — как не молиться, за хлеб насущный?
— А говорила: «голод», «голодаем», — отозвалась та после долгого молчания, — разве это голод, когда ты хлеб в руках несешь?
— А что же, как не голод? — Ира заплакала и рассказала, как съела зимой весь хлеб одна. — Дома дети, голодные! Ждали меня, ждали… А у меня в банке пшенички — чуть, полгорстки, да две картошки. Сварила…
Шли молча.
— Крупу надо без соли варить, совсем, — строго сказала Немка.
— Как же? Тогда вкуса никакого…
— Зато пшено разваривается, и у тебя намного больше получится, чем с солью. А соль потом добавь, когда готово.
Когда подходили к Михайловке, Немка придержала ее за рукав:
— Пойдем, я тебе покажу, — и не оглянувшись повернула влево, к балке, как здесь называли старый овраг.
Стояли у края, глядя на густой, жесткий даже на глаз, кустарник, расползшийся по дну оврага. Немка курила самокрутку, глядя вниз. Потом заговорила, и прервать ее было немыслимо.
Ты говоришь: голод. А ведь мы хлеб несем. Вот он, в руках. Целая буханка! Да крупа! И в каждом огороде картошка. Вон собака чья-то брешет — живая, никто ее не съел. Птицы не боятся летать. Бабы коров доят. Слышишь, коров! А ты: голод. Какой же это голод, ты под ноги посмотри: лебеда вон в цвет пошла, щавелю сколько… Голод?! Вон там голод, на дне балки. Хочешь голод увидеть — спустись. Не смотри, что кусты, эти кусты на голоде выросли, на костях. Некому было хоронить, да и сил не было. Так люди сами ползли поближе к балке, когда уж доходили… Там раньше трава росла; съели траву. И щавель тут весь был выщипан, где мы стоим. Вороны не летали; ворона тоже должна что-то съесть, чтоб летать, а что ей съесть, птице, когда люди червяков из земли выковыряли?! Хлеба хватало; только не нам, нелюдям. Забирали хлеб, и не в «Заготзерно» везли, а — оттуда. Да отовсюду, только бы забрать! Неделями возили — вот сколько хлеба уродилось! И запасы тоже отняли — подчистую, до зернышка. Солдат прислали. Красноармейцев, да. Вывозить хлеб не успевали: вагонов не хватало; он кучами свален, а рядом солдат с винтовкой. Солдаты не голодали — им паек привозили. Так один поделится своим солдатским хлебом… хлебом, который мы вырастили, мы все, кто тут жил: немцы, русские, украинцы. Тайком поделится, чтоб товарищ не видел. А другой… Другие, точно волки, на людей кидались. У солдат командиры есть, он не сам додумался, чтобы людей не подпускать к хлебу. Они, солдаты, и хоронили потом. А командиры? Командирам кто приказал?..
…Ничего, кроме кустов этих, там не росло больше. А что мертвым надо? Им и кустов не надо. Кусты — это для живых, чтобы костей не видно было, а то никаких слез не хватит. Да сколько земли осыпалось, за десять-то лет, уж засыпало их глубоко-глубоко, и хлеба им давно не надо.
А ты говоришь: голод. Голод там, на дне.
Женщина повернулась к Ирине: « Besessen , — они все были besessen : и голодные, и сытые. Наши-то от голода, а те? От злобы, но тоже besessen . Иначе как такое могло?..» Она не плакала, только лицо стало напряженным, и рот сомкнулся в жесткую, горькую линию. Лицо стало расплываться, раздваиваться, так что Ира видела сразу двоих: Немку и Кристен, и одна из них отводила волосы со лба и зябко вздрагивала плечами: « Besessen ». Она незаметно вытерла глаза, и Кристен исчезла, растворилась в сумерках и том давнем времени, которое молодцевато неслось в пропасть под звуки песни «Если завтра война…».
Война была — сегодня.
А то, что похоронил в себе овраг, случилось еще раньше, в мирное время, и в той стране, где
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу