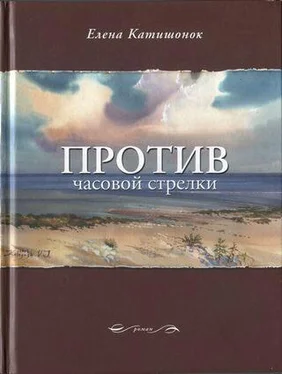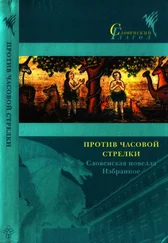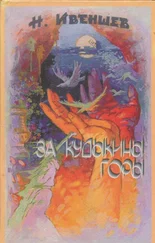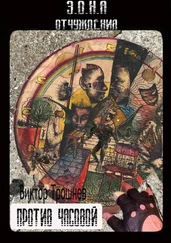Как хорошо, думала бабушка. Какая я счастливая!
Сейчас Лелька посмотрит на часики, вскочит и побежит за таблетками. Носится, как носилась раньше, до больницы — и хоть бы хны! Рука совсем хорошая стала, а то висела подбитым крылышком, газету не могла взять со стола.
И как раньше явилось откуда-то слово «бивуак», так сейчас память подсказала: отпускная грамота. Теперь — пора.
Нельзя жить бесплатно.
Другие это поняли раньше. Надя, цветущая и крепкая, с брусничным румянцем, не от того умерла, что работала на вредном производстве, а молоко сберегала для детей; вовсе нет. Больше всего на свете Надя хотела квартиру; получила — и умерла. Выкупила своей жизнью, а не взносом в кооператив.
А Тоня, Тоня за что? Ведь Тата с Юрашей уверены, что, не носи мать сумки с ядами, так жила бы вечно! Как они не понимают, что яд был не в сумках… Если бы сестра не пошла работать, тот яд убил бы ее намного быстрее. А теперь в доме мир и тишина, столовая опять столовая; и невестка благостная, и зять за ум взялся…
Брат? — Брат выкупил свое достоинство и покой, потому и ушел так рано.
Колина отпускная кровью была написана, кровью и слезами.
Как странно, думала она, не замечая, что из глаз медленно текут слезы, прямо в подушку. Как странно: умершие оставляют нам свою недожитую жизнь, мы подхватываем — и живем уже не только свою, но и жизнь тех, кто ушел, только не так, как она могла бы сложиться, — кому ж это ведомо? — а так, как свою собственную, останься они с нами. Мы продолжаем с ними разговаривать, и не только разговаривать — советоваться, спорить, и ждем, что вот-вот откроется дверь — и войдет…
А ведь это я — выйду, вот как. Тогда и договорим.
У болезни свои законы. Они распоряжаются человеческой жизнью, хотя ничего не знают о ней. Перед тем как окончательно распорядиться бабушкиной жизнью, то есть передать ее в другое ведомство, инсульт давал короткие передышки. Тогда она медленно и с наслаждением выпивала стакан чаю вприкуску, заходила в детскую и вешала в шкаф школьную форму, а потом медленно двигалась назад к постели. Никто не знал, что принесет следующий день; шел ноябрь.
Каштан за окном облетел. Пальма больше не давала новых побегов; Ольга срезала еще несколько засохших ветвей.
Между подушкой и валиком тахты у бабушки стояли фотографии родителей, Максимыча и Матрены, и она молча смотрела на них, пока не засыпала. Тогда Ольга вставала из-за письменного стола и на цыпочках выходила.
Бывали дни, когда они подолгу разговаривали, и это было самое хорошее время.
И — самое печальное.
Померив в очередной раз давление, внучка улыбнулась:
— Скоро выйдем с тобой погулять!
— Я не встану больше, Лелечка, — бабушка погладила ей щеку. — Вот сыночек придет, попрощаюсь с ним. Кто знает, сколько дней мне Бог еще даст…
И стало не нужно больше лукавить, можно было молча сидеть рядом, смотреть в любимое морщинистое лицо и целовать родные руки.
А еще стало можно спросить о том, что давно мучило Ольгу:
— Скажи, Ласточка: ты хочешь с Таечкой увидеться? Я могу узнать, где она живет… Ты скажи только: хочешь?
Бабушка отпрянула в испуге:
— Нет! Не надо, не пускай ее сюда, Боже сохрани!..
Знать бы, какой панический страх вызовет вопрос, не стала бы спрашивать. Однако Ольга опасалась, что Тайка узнает о состоянии «матушки», заявится сама, и как себя вести в случае этой немой сцены, было совсем не понятно. Однако все изнурительные предположения оказались не нужны: Тайка не появлялась.
— Мама!
Ольга вбежала в комнату. Бабушка лежала с закрытыми глазами и медленно водила головой по подушке, жалобно повторяя: «Мама! Мама!..»
— Здесь твоя мама, Ласточка. Вот фотографии, и мамы, и папы. Попить хочешь?
— Мама… — Не открывая глаз, бабушка улыбнулась, — не уходи, мама.
Это походило бы на игру, если бы не было еще одним флажком на карте инсульта.
Первое слово ребенка, осторожно трогающего мир, стало последним бабушкиным словом. Отныне она звала внучку не по имени, а — мамой.
Следующий удар лишил бабушку последнего слова. Теперь она только стонала.
Новый Год пришел, как не вовремя и некстати приходит случайный гость. Через неделю наступило Рождество, но бабушка об этом не ведала, а значит, и Рождество не считалось, потому что Рождество без бабушки — все равно что незажженная елка в Новый Год.
И все же Рождество сияло по вечерам в окнах разноцветными огоньками на елках, доживающих свой праздничный век, а днем продолжало сиять ослепительным холодным солнцем. Бабушкины глаза были закрыты, и не нужно было задергивать занавески, как стало не нужно поворачивать пальмочку зеленой, пышной стороной к постели, тем более что, если немного зелени еще оставалось, то о пышности говорить не приходилось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу