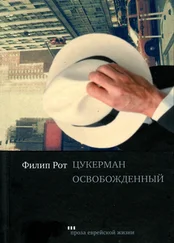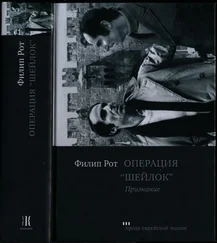Дорогой Сэнди
Я так думаю есть два типа филасофии. Есть люди участливые и люди безучастные. Есть люди деятельные и валынщики, которые ничего не делают и никому не помогают.
Я вернулся с работы, почувствовал себя скверно, вы с Филом были тогда еще маленькие. Мама готовила обед. Я не стал обедать, а прошел в гастиную. Уже через час приехал доктор Вейсс — его вызвала мама. Так развевались события, доктор спросил, что со мной. Я объяснил. У меня болело за грудиной, он меня осмотрел и сказал, что не находит ничего серьезного. После чего спросил, чем я злоупотребляю. Я сказал, что много курю, а больше ничего лишнего себе не позволяю. Доктор Вейсс сказал: а что если курить не двадцать четыре, а три сигареты в день. Я сказал: а почему бы вовсе не бросить курить и спустя неделю у меня перестало болеть сердце, а курить я бросил полностью. Мама не осталась безучастной, доктор Вейсс посоветовал, я прислушался.В этом мире есть много советчиков, а также людей небезучастныхи деятельных,ну и людей прислушивающихся. В жизни и так полно опасностей, а люди еще позволяют себе бог знает что: много курят, пьют, принимают наркотики, а кое-кто и объедается. А ведь от всего от этого можно заболеть, если не вовсе умереть.
Ты хотел иметь дом. Я тут же достал деньги. Почему? Да потому что я не остался безучастным. Филу потребовалось оперировать грыжу. Я повез его к доктору, и его оперировали. То же и с мамой, а ведь она проболела до этого двадцать семь лет. Почему, да потому что я не был безучастным и бездеятельным. Ее родители волновались — как не волноваться, — но я чувствовал боль их обоих, как свою, и я не валынил. Я говорю Джонатану, я цукаю его. Я повторяю самые разные избитые выражения такие, как «Денежки любят счет», «Береги денежки про черный день» (а когда он говорит: еще неизвестно придет ли он твой черный день, я говорю: от черного дня никто не застрахован), и не раз говорю, и не два, а говорю и говорю — или цукаю, а почему: потому что он не может взять себя в руки, все равно как запойный пьяница или наркоман. Почему я не перестаю цукать? Я понимаю, что он не знает, как от меня отвязаться, но я вмешиваюсь: мне не все равно, что будет с людьми, мне небезразличными, и я стараюсь их исправить, пусть даже они и упрямятся и не желают быть десциплинированными (дисцеплинированными?), и я сам тут не исключение. У меня не всегда спокойна совесть, но я адолеваю дурные мысли. Мне не безразлично, что с ними будет, и я забочусь о них по-своему.
Извини, что пишу коряво и с ошибками. Я и всегда не очень хорошо писал, а теперь пишу еще хуже. Глаза у меня уже не те.
Твой Цукарь, Неграмотей
с любовью,
папа.
Чтобы вести войну за здоровье
Близких людей — не жалею крови!
— Вы что, поссорились с Лил? — спросил я, когда, войдя в квартиру, увидел, что он один.
— Она все равно где-то пропадает, так в чем разница? Бегает туда, бегает сюда. Когда она болела, я с ней нянькался, не отходил ни на шаг. Ну ее. Пусть ее. Мне и без нее хорошо. Мне никто не нужен.
— Не хотелось бы лезть не в свое дело, — сказал я, — и все же, стоит ли ссориться в такое время?
— Я ни с кем не ссорюсь, — сказал он. — И никогда не ссорился. А если я что ей и говорю, так для ее же пользы. Не хочет меня слушать — скатертью дорога.
— Послушай, надень-ка свитер, туфли, я позвоню Лил и, если она захочет к нам присоединиться, пойдем погуляем. Погода прекрасная, что тол icy торчать взаперти в темной комнате, и все такое прочее.
— Мне хорошо взаперти.
И тут я произнес три слова — ничего подобного я за всю свою жизнь ему не говорил.
— Делай, как велено, — сказал я. — Надень свитер и туфли.
И они, эти три слова, сработали. Мне было пятьдесят пять, ему без малого восемьдесят семь, на дворе стоял 1988 год: «Делай, как велено», — сказал я, и он повиновался. Одна эпоха кончилась, настала другая.
Он пошел к шкафу, вынул ярко-красный свитер, белые кроссовки, я тем временем позвонил Лил и спросил: не хочет ли она погулять с нами.
— Ваш отец пойдет гулять? — спросила она. — Я вас верно поняла?
— Да. Спускайтесь, присоединяйтесь к нам.
— Я ему предложила: погуляем, тебе пойдет на пользу, и что — он меня чуть не убил. Не хочу ругать его, Филип, но что есть, то есть. Он слушает только вас.
Я засмеялся.
— Долго это не протянется.
— Спускаюсь, — сказала она.
Мы втроем прошли три квартала старых многоквартирных домов и новых домов жилых товариществ — они выросли там, где некогда высились последние элизабетские особняки затейливой викторианской архитектуры, — до аптеки. Той же дорогой, которая подорвала мамины силы в день ее смерти. Лил поддерживала его под одну руку, я — под другую, он ходил неуверенно: у него ослабло зрение. Всего несколько месяцев назад он терпеливо ждал, когда на зрячем глазу созреет катаракта, и ее наконец можно будет удалить. Теперь же вместо того, чтобы дожидаться, когда несложная операция вернет ему зрение, а с ней — в чем он не сомневался — и его неизменную независимость, он обдумывал: решиться ли ему на черепно-мозговую операцию, которая может оказаться смертельной.
Читать дальше