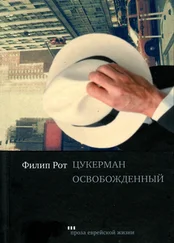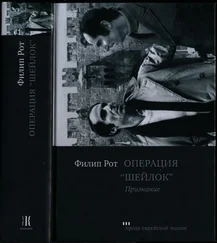Странно было следить за тем, как ее сознание то замыкалось в себе, то вырывалось на волю. А временами пугающе деформировалось, и она, несколько часов не замолкавшая, вдруг вскидывала на меня усталый взгляд и с юмором, чересчур изощренным для моего понимания, спрашивала: «Скажи, а мы с тобой были женаты?»
— Насколько мне известно, нет. Но был момент, когда мне этого хотелось, — ответил я со смехом.
— Хотелось стать моим мужем?
— Да. В юности, когда мы встретились у Лоноффа, я подумал, как было бы замечательно стать твоим мужем. Ты была тем, что стоило удержать.
— Да? Была? Правда была?
— Чистая правда. Ты казалась ручной и сдержанной, но твоя необычность была очевидна.
— Абсолютно не понимала, что делала.
— Тогда?
— Тогда, сейчас, всегда. Не понимала, как рискую, соединяясь с мужчиной настолько старше меня. Но он был неотразим. Это его стоило удержать. Я так гордилась, что вдохнула в него любовь. И как только это мне удалось? Я так гордилась, что совсем не боялась его. Но жила в постоянном страхе: страшилась Хоуп и того, что она может сделать, страшилась того, что сама делаю ей. Но совершенно не понимала, как раню его. Мне нужно было выйти замуж за тебя. Но Хоуп разорвала брак, и я сбежала с Лоноффом. Наивно, ничего не понимая, в убеждении, что поступаю как взрослая женщина, идущая на огромный риск, а на самом деле возвращаясь в детство. И правда в том, Натан, что я так и осталась в детстве. Ребенком и умру.
Была ребенком, потому что жила с человеком настолько старше? Оставалась в его тени, относилась к нему с обожанием? Почему этот мучительный союз, разрушивший столько ее иллюзий, стал силой, замуровавшей ее в детстве?
— Не скажешь, что ты вела себя по-детски.
— Не вела.
— Тогда я не понимаю, что значит это твое «была ребенком».
— Нужно открыть тебе все? Да? Нужно?
И вот тут жизнеописание, которое я сочинил для нее в 1956-м, наконец уступило место подлинной биографии, которая пусть и не поражала взвинченной символикой, придуманной в те давние времена, но совпадала со многими моими тогдашними умопостроениями. И это было неизбежно, потому что ее судьба разворачивалась на том роковом континенте и в то роковое время, слитая с уделом отмеченного роком народа, врага господствующей расы. Развоплощение образа, в который я воплотил ее, не изменило судьбы, уготованной ее семье, как и семье Анны Франк. То было бедствие, чьих масштабов не изменить произвольно, чью подлинность не разрушить воображением, — бедствие, память о котором не вытеснить даже раковой опухоли, пока эта опухоль не привела еще к смерти.
Вот так я и узнал, что Эми приехала не из Голландии, где я мысленно прятал ее на замаскированном чердаке склада, фасадом выходящего к амстердамскому каналу, — на чердаке, что позднее станет музеем-храмом мученицы Анны, а из Норвегии (Норвегия — Швеция — Новая Англия — Нью-Йорк), то есть, по сути, из ниоткуда, проделав этот путь наравне со многими и многими еврейскими детьми, ее сверстниками, родившимися не в Америке, а в Европе и чудом избежавшими смерти во время Второй мировой войны, хотя их детство совпало со зрелостью Гитлера. Вот так я узнал обо всех этих страданиях, которые всегда будут возмущать слушателя, вызывая в нем ярость и изумление. В рассказчице ярость не клокотала. И уж конечно она не испытывала изумления. Чем глубже она погружалась в несчастья, тем больше ею завладевало обманчивое спокойствие. Как если бы эти потери могли когда-нибудь отпустить ее душу.
— Моя бабушка — из Литвы. Предки со стороны отца — из Польши.
— Что привело их в Осло?
— Дед с бабушкой оставили Литву ради Америки. Но когда добрались до Осло, дальше их не пустили, и там они и остались, так как американское консульство отказало им в праве на въезд. Мама и дядя родились в Осло. Отцу довелось побывать в Америке, это было похоже на юношеское приключение. Когда он возвращался в Польшу, началась Первая мировая война. В тот момент он был в Англии и решил не ехать домой, чтобы не идти в армию. В результате застрял в Норвегии. Шел тысяча девятьсот пятнадцатый год. И он познакомился с моей мамой. Несколько раньше евреям не разрешалось селиться в Норвегии. Но один очень известный норвежский писатель развернул кампанию в их поддержку, и с тысяча девятьсот пятого года они начали получать разрешение. В пятнадцатом году родители поженились. Нас было пятеро: четыре брата и я.
— И все спаслись? — предположил я, обнадеженный. — Мама, отец, четыре твоих брата?
Читать дальше