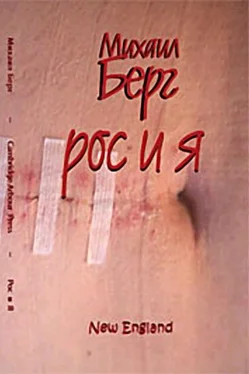— Не кажется ли вам, батенька, что это слишком уж смахивает на злоумышление? — спросил его инспектор.
— Отнюдь, отнюдь, сударь, — быстро нашелся Инторенцо, прекрасно знавший, чем грозит такой поворот. — Улица — настоящий разносчик слухов!
— Но петух, как вашему сыну… — («Пасынку, пасынку, ваше превосходительство», — возразил Инторенцо), — хорошо, пасынку, как вашему пасынку могло прийти в голову такое, такое… Петух, просто не поворачивается язык.
Дверь за спиной Инторенцо со скрипом отворилась; раздался шепот, шаги, шуршание бумаг, он услышал несколько раз повторенное свое имя; и вдруг его пронзил громкий, сухой, как кашель, голос:
— Я знаю этого человека, — мерным, холодным тоном, очевидно рассчитанным на то, чтобы испугать его, сказал генерал, в котором Инторенцо с ужасом узнал Мюрата. Холод, ящеркой пробежавший прежде по спине Инторенцо, тисками охватил его голову.
— Mon général, vous ne pouvez pas me connaître, je ne vous ai jamais vu… [4] — Генерал, вы не могли меня знать, я никогда вас не видел…
— C’est un espion russe, [5] — Это русский шпион.
— перебил его Мюрат, обращаясь к молодому человеку в очках, сидевшему у окна с газетой.
С неожиданным раскатом в голосе Александр быстро заговорил:
— Non, Monseigneur, — сказал он, неожиданно вспомнив, что Мюрат был герцог. — Non, Monseigneur, vous n’avez pas pu me connaître. Et je n’ai pas quitté Moscow. [6] — Нет, ваше высочество… Нет, ваше высочество, вы не могли меня знать. И я не выезжал из Москвы.
— Votre nom? [7] — Ваше имя?
— повторил Мюрат.
— Intorentso. [8] — Инторенцо.
— Qu’est ce qui me prouvera que vous ne mentez pas? [9] — Кто мне докажет, что вы не лжете?
— Monseigneur! [10] — Ваше высочество!
— вскричал Инторенцо не обиженным, но умоляющим голосом.
Мюрат поднял глаза и пристально посмотрел на Инторенцо. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и, возможно, этот взгляд спас Инторенцо. Здесь, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту минуту, возможно, смутно перечувствовали тысячу разных вещей и поняли что-то важное друг о друге, еще о многом, в том числе — о миссии Инторенцо. Формальности заняли некоторое время, но через два часа его отпустили.
Однако именно то, что Инторенцо, несмотря на компрометирующие обстоятельства, был отпущен оккупационными войсками, сослужило ему плохую службу и вызвало естественные подозрения у чиновников известного департамента, когда город в третий, но не последний раз перешел из рук в руки. Очевидно, был издан тайный приказ об аресте и репатриации всех подозрительных лиц, а на Инторенцо еще лежало несмываемое пятно принадлежности к Конгрессу. Примерно одновременно, хотя и в разных местах, были произведены превентивные аресты. Инторенцо, по мнению Афиногенова, первоначально должен был быть эвакуирован вместе со своей семьей, но из-за толкучки на перроне пробиться к двери вагона никак не удалось, и Инторенцо решил попробовать сделать это через несколько дней. Однако после уже никакой эвакуации не было, а то, что он остался, только добавило масла в огонь подозрений. Город тонул в клубах дыма; армия все сжигала на своем пути; за несколько дней до сдачи города, по словам вдовы, за Инторенцо пришли несколько военных и, не застав дома, приказали обязательно быть утром. Утром он и был уведен. Графтио приводит две версии смерти или исчезновения Инторенцо, опирающиеся на двух свидетелей, один из которых вскоре после войны застрелился, а другой на все расспросы отвечал уклончиво и только через год, встретившись с вдовой Инторенцо в булочной, где он укрывался от дождя и отряхивал зеленую фетровую шляпу, с полей которой все равно капало, сказал, пряча глаза, что Инторенцо умер на этапе от дизентерии. Его рассказ, чрезвычайно путаный и невнятный, содержал несколько противоречивых сведений. Вопреки словам мадам Инторенцо, присутствовавшей при том, как мужа увозили, он уверял, что их этап сначала долго гнали до какого-то маленького городка и только там посадили в вагоны. Во время перехода их изредка останавливали, приказывали сесть на землю и, скороговоркой прочитав приговор, вынесенный кому-то в пути, наскоро приводили его в исполнение. Дальше их везли через Воронеж до Казани, где многие (в том числе и рассказчик) были отпущены. Но Инторенцо до Казани не доехал, в пути заболев дизентерией и невероятно ослабев от голода, усугубленного тем, что весь свой хлеб он выменял на табак. Тут начинались противоречия. По одной версии, Инторенцо, полуживого или уже мертвого, выбросили из вагона на полном ходу поезда; по другой, после того как часть арестованных отпустили, его повезли почему-то дальше, и о его кончине рассказчик узнал только в пересыльной тюрьме. А по совсем глухим слухам, идущим непонятно от кого, — ослабевший и постепенно сходящий с ума Инторенцо был пристрелен конвоем, то ли за то, что без разрешения побежал с чайником за кипятком, то ли вызвав раздражение безостановочным чтением Петрарки на итальянском, ибо в последние дни в нем, очевидно, заговорили гены, и он, теряя память, стал говорить на языке своих предков. Демонстрируя ужасающую осведомленность, Дик Крэнстон уверял, что как раз в это время в осажденном Петербурге погиб и другой конгрессмен, Ялдычев-младший, по слухам, умерший в камере от истощения, если только еще раньше не был аркебузирован приспешниками Мюрата; хотя сам Крэнстон уверяет, что Ялдычев был попросту «съеден своими сокамерниками». Именно последнее предположение кажется нам наиболее достоверным, при условии, конечно, уверенности в конгрессменском сане потерпевшего, ибо конгрессменский статус (хотя и не в явной форме) предполагал передачу своей миссии преемнику, в частности, в простейшей форме каннибализма. Если вообразить, что среди сокамерников Ялдычев обнаружил своего возможного преемника, то способ мистического исчезновения и трансформации, подтвержденный собственной плотью, должен был наполнить его радостью.
Читать дальше