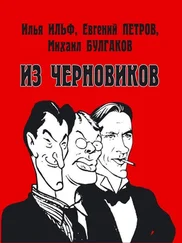Младший брат тоже был не промах. Ему, в условиях неписаного советского майората, достались по наследству лишь крохи, и своим состоянием он был обязан только себе, и никому другому. Так часто бывает: человек мечтает об искусстве, о полуголодном существовании в обнимку с верной музой, не сулящем ничего, кроме тайного горения, а судьба решает иначе, и вместо тернистого пути художника посылает своего протеже на деловую стезю, лепя из него удачливейшего дельца, которому все само идет в руки. За что бы он ни брался, все приносило ему невероятные дивиденды, хотя сам считал, что занимается этим спустя рукава, дабы как-то заработать на тот черный — а на самом деле — светлый день, когда засядет наконец за давно задуманный роман либо закончит уже подготовленную эскизами серию картин.
Лелея мечты об искусстве, он устраивается анахоретом на даче в Новом Иерусалиме, чтобы писать и писать, но ему тут же делают фантастическое предложение о разработке проекта виллы одного бельгийского миллионера. Этот проект впоследствии он переработает для более скромных дач друзей брата, тоже коллекционеров, и даже согласится руководить строительством первых пробных экземпляров. Несколько лет строительства, затем пять лет работы с мозаичным панно и ювелирными изделиями (в основном по заказам Московской патриархии, знакомство с которой началось с невинной просьбы помочь отреставрировать алтарь и дароносицу в одном полуразвалившемся соборе на Поклонной горе). А затем еще семь лет кропотливых трудов по освоению техники перегородчатой эмали, для чего он приобрел уникальное оборудование, в конце концов окончательно потерянное и разворованное во время очередного обыска. Так как деньги, конечно, являлись лишь средством, он, по сути дела, с самого начала стал вкладывать их в новую живопись и фантастический по уникальности журнал, став благодетелем и меценатом для художников и владельцем труднопредставимой коллекции нового искусства, сравнимой разве что с коллекцией Костаки. Он давно уже вызывал восхищение, перемешанное с подозрительностью, своей странной удачливостью, везением настолько постоянным, что примерно треть его знакомых полагала, что он является прекрасно замаскированным агентом ЦРУ; другая треть считала его агентом KGB, а остальные были уверены, что его кормят и те и эти; и только очень немногие, самые близкие к нему, понимали, что это — чепуха, ибо сами ничего не понимали.
В это лето, за год до описываемых событий, я жил почти в полном одиночестве в недостроенном флигельке на берегу моря, рядом с Мерикюлем, снимая его у странного типа с внешностью постаревшего Франкенштейна, а на самом деле бывшего лесного брата, отсидевшего свое, чтобы затем стать то ли лесником, то ли пожарным, в никогда не снимаемой сизо-зеленой шляпе с опущенными полями, постоянно что-то бормочущим на русско-прибалтийском диалекте.
Его запущенный участок поражал комбинацией живописности и беспорядка в виде склада ненужных и немыслимых вещей, вроде использованных и искореженных газовых плит всевозможных образцов и моделей, труб, конфорок, дырявых ведер, кастрюль, банок, железных и стеклянных, всевозможного калибра, начиная от склянок из-под лекарств и кончая чудовищного объема сосудами абсолютно непонятного назначения. И по всем этим предметам, сваленным вдоль дорожек с проросшими сквозь них бурьяном и травой, ползало несметное полчище улиток, где были только что родившиеся, размером с ноготь младенца, и чудовищные монстры, величиной с кулак.
Весь июнь шел дождь, прекращаясь на считанные часы, забор перед окном почернел, позеленел, покрылся изумрудным мхом, просвечивая сквозь светло-зеленую волну кустов, — и стоило только выйти за порог, как улитки начинали трещать под каблуком, как бы нога с брезгливой расчетливостью ни избегала столкновения. Улиток, казалось, было столько, сколько бывает порой дождевых червей на дорожке в теплый день после дождика, когда они выползают изо всех пор.
Но суть совпадения (как совпадают порой два различных во времени образа, тут же рождая целостную и уже неделимую реакцию) была не в улитках и даже не в двух нимфетках, живших по соседству (одной десятилетней в плиссированной юбочке, гольфах и с пушком на голенях, которую зорко стерегла бабка в очках-велосипедах; и другой, уже распустившейся лолите, в доме рядом, всегда в чем-нибудь сиренево-фиолетовом и огромных клипсах размером с кофейное блюдечко). А во всем вместе: одиноком житье, дожде, улитках, гольфах, сумасшедшем хозяине с желто-седой бородой, который иногда откуда-то из глубины окутанного листвой сада издавал странные, воющие звуки, — и возникало, проступало ощущение пустого, дикого Крыма, без санаториев и отдыхающих, послевоенные горы Кимерии и девочка-дюймовочка, еще не вышедшая до конца из преамбулы кувшинки.
Читать дальше