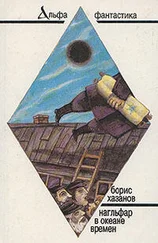Словом, обычные дела. Я вернулся. «Ну что, Маша…», — сказал я. Моя сожительница, в переднике и платочке, тоже покончила с делами и сидела перед обеденным столом, сложив под грудью большие красные руки.
«Там письмо вам…»
«А», — сказал я, побрёл в другую комнату и плюхнулся на своё ложе. Несколько времени спустя я услышал её шаги, скрипнула дверь и вернулась в пазы — я остался один. Начинало смеркаться. Письмо — пухлый конверт без обратного адреса — терпеливо дожидалось меня вместе с ворохом инструкций и приказов из района, я сунул их в нижний ящик стола; я никогда не читаю официальных бумаг.
«Здравствуйте, дорогой доктор, возможно, вы меня помните…»
Я пересчитал странички, ого. Это была целая рукопись. Почерк прилежной ученицы, без помарок, так что, например, слово, которое надо зачеркнуть, заключалось в скобки. Рука спокойной, круглолицей и наклонной к полноте женщины с низким тазом, с крепкими короткими ногами. Я уверен, что существует связь между почерком и телосложением.
Помнил ли я хибарку на берегу озера, странные импровизированные поминки, и как она успокаивала обезумевшего от горя пса, ходила по комнате, собирала на стол, присела перед буфетом? Она была в лёгком платье, в синей вязаной кофте, ей можно было дать тридцать с небольшим, на самом деле она была моложе, у неё были тонкие и негустые, обычные у женщин в северо-западных областях, светлые ореховые волосы, серые выпуклые глаза с жемчужным отливом, полные губы, короткая белая шея и, вероятно, такие же белые и круглые груди. Вопреки всему дикому и невероятному, она излучала покой. Всё это в один миг воскресло перед глазами.
Прошло уже столько времени, писала дочь самоубийцы, она не знает, кто теперь там живёт, сама она не бывает в наших местах, да и прежде наезжала только ради отца; писала, что в Ленинграде больше не живёт, нашла, слава Богу, хорошего человека и уехала с ним, и только одного хочет — забыть все что было. Письмо, однако, не свидетельствовало о том, что ей это удалось.
«Как вы знаете, дело было закрыто, собственно говоря, никакого дела не было, нас с мамой оставили в покое, а в поликлинике подтвердили, что он страдал наклонностью к депрессивным состояниям. И вот я вдруг решила вам написать, сама не знаю, почему, может быть, вам как медику будет интересно. Но только с условием — что всё останется между нами».
«Не знаю, — писала она, — известно ли вам, что отец почти двадцать лет отсутствовал, мама вернула себе девичью фамилию, мама никогда ничего не рассказывала, вы знаете, что о таких вещах не очень-то поговоришь. Но я не хочу сказать, что он был для меня совершенно чужим человеком, когда вдруг, без предупреждения, не написав, не позвонив, вернулся — рано утром стукнул в окно. В первый момент мы испугались. Мама ахнула, словно вошёл призрак. И действительно, первая мысль была, что он явился с того света, пришёл разрушить нашу тихую и спокойную жизнь. Мне было восемь лет, когда его увели, а теперь я была взрослой женщиной. Я его помнила могучим, красивым, широкоплечим мужчиной, а тут вошёл, в зимней шапке, в валенках, с деревянным самодельным чемоданом, небритый, с тусклыми глазами, колючий и одновременно заискивающий, с таким выражением, как будто он что-то ищет или хочет что-то спросить, и когда он стащил с головы свой треух, то волосы у него были редкие и выцветшие, вытертые на висках, и едва успели отрасти. Пришлось привыкать. Места у нас было мало: я незадолго до этого развелась с мужем и переехала с сыночком к маме».
«Так что неудивительно, что начались очень скоро трения, уж очень мы были разные люди. Всё время получалось так, что он и делает всё не так, и думает не так. Мать досаждала ему разными мелкими замечаниями, он огрызался, порой из-за какого-нибудь пустяка по целым дням не разговаривали друг с другом. Он как будто разучился жить нормальной жизнью, словно пролежал эти двадцать лет в ледяном гробу. Работать тоже не рвался, да и неизвестно было, что ему делать, устроиться на работу можно только с пропиской, а прописаться, только если человек работает. Тут, между прочим, выяснилось, что у моего отца паспорт с особой отметкой. Причём выдан не в Ленинграде, а в каком-то городишке, где он пробыл недели две, прежде чем к нам приехать. Что означала эта пометка, никто толком не знал, да и спрашивать не очень-то хотелось. Написано только: „Согласно Положению о паспортах“, а что это за Положение? Маме удалось успокоить соседей, чтобы они помалкивали насчёт того, что человек живёт на птичьих правах, хотя сами знаете: всё это сочувствие, понимающие вздохи — до первой ссоры; само собой, они догадались, что за птица мой отец… В нашей квартире было ещё три семьи, одна комната почти всегда была заперта, в другой проживала одинокая мать с ребёнком, в третьей муж с женой — пенсионеры, а вы знаете, что от пенсионеров ничего хорошего ждать не приходится: снять трубку и позвонить в милицию, чего проще. Мать зазвала в гости участкового, выставили угощение, отец сидел тут же, мрачный, насупленный, чокнулся раза два с милиционером. Но что можно было сделать, если он не имел права жить в больших городах. Неизвестно было, где он вообще имел право жить».
Читать дальше