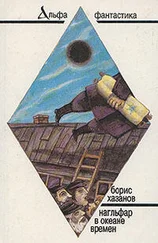«Давай…»
Маруся Гизатуллина поставила ногу на табуретку и, поддерживаемая с двух сторон, встала на табуретку перед бочкой, задев мальчика круглым влажным бедром. Внутри, в бочке стояла другая табуретка. Маруся попробовала воду ногой и охнула. «Ну чего», — сказала Нюра сурово. Маруся сунула ногу в воду. «Держи, держи, — говорила Нюра, — привыкнешь… Другой ногой становись». Подросток ждал со страхом, что сейчас её придётся вытаскивать и звать на помощь, потому что она сожгла себе всё тело кипятком, но Маруся героически сидела на корточках там, на табуретке, схватившись руками за края бочки, и громко, со свистом дышала открытым ртом, моргая круглыми и блестящими, чёрносмородинными глазами с огромным неподвижным зрачком. «Терпи», — сказала Нюра, строгая, словно на работе, вся розовая, полногрудая, в шлёме тёмнорусых, кое-как свёрнутых волос, теперь уже совершенно не стесняясь подростка. «А ты, — она показала рукой на предбанник, — посиди там… — И когда он толкнулся в тяжёлую дверь, крикнула вслед: — Смотри никому ни-ни!» Процедура помогла лишь отчасти. Ночью хлынула кровь, полуживую Марусю принесли на руках в хирургию, и главврач, в халате, кое-как завязанном на затылке, в ботинках на босу ногу, облив спиртом руки, при свете керосиновых ламп сделал то, что было необходимо.
Случай, как уже говорилось, забылся — и не забылся; забвению, как ни странно, способствовало то, что последовало за этой сценой: кровотечение и всё остальное, немедленно распространившееся, — ведь в этой крошечной вселенной женщин ничто не оставалось тайной. Разве что не узнали, что он был там и помогал. Услыхав краем уха о том, что случилось, мальчик испытал не жалость, а брезгливость, непонятную ему самому; можно предположить, почему обо всём этом хотелось забыть: аборт (слово, точное значение которого он не знал) означал некоторый взлом женского тела, которое в его представлении (хоть он этого и не сознавал) было и чем-то аномальным, и вместе с тем целостно-неприкасаемым, кругло-замкнутым, с плотно сжатой складкой; всё, что его разжимало, будь то естественные отправления, кровь или насилие, вызывало в нём отвращение. Мальчик был мужчиной, иначе говоря, адептом девственности. Так получилось, что обе части ночного приключения — баня и то, что за ней последовало, — разъединились в его сознании, и несчастье, едва не унёсшее Марусю Гизатуллину, было репрессировано памятью. Но зрелище, представшее перед ним в тускло-блестящем, пахучем банном тумане, не пропало бесследно; оказалось — в тот момент, когда, сидя в классе, он думал о почтальонке и о письме, — что оно хранится в дальнем закоулке памяти, словно под замком, который отомкнуло одно единственное слово-ключ; он и стыдился вспомнить, и не мог воспротивится этому воспоминанию. Пробуждало ли оно чувственность в подростке? Нет, мы этого не думаем; скорее чувство экзотики и внезапное откровение красоты и гибкости этого тела, чьё совершенство, может быть, нарушала лишь слипшаяся от влаги дельта внизу живота; не зря ваятели древности избегали изображать эти волосы. Но, как и все архаические воспоминания, образ нагой, полногрудой и круглобёдрой девушки-богини не мог связаться с Нюрой их совместного пути по скрипящему снегу, морозным утром из больницы в село.
Лето кончилось, уже не купались, и горячий солнечный день, когда она стояла, круглоголовая, похожая на крупного мальчика, с серёжками в ушах, щурясь от пляшущих бликов, и её круглые плечи и начало грудей белели над водой, день этот в свою очередь ушёл в легендарное прошлое. Подросток жил тем, чего было в избытке: будущим. Подросток вышел на крыльцо, весь захваченный новым замыслом, словно внезапно налетевшим ветром, то была грандиозная драматическая поэма, долженствующая отразить всю историю человечества, с прологом на небесах, как в «Фаусте», и эпилогом в коммунистическом обществе. Между тем было нетрудно догадаться по голосам и смеху за перегородкой, что у Маруси Гизатуллиной гостит муж. Как спящего будит тревога, а он от неё отмахивается во сне, словно от чего-то несущественного, мешающего, так мальчику, которого настойчиво будила жизнь, казались досадной помехой вздохи и скрипенье кровати за стеной. Он дунул на пламя и вышел, ночь была синей, серебряной, где-то за тысячи километров гремела война. И вся жизнь была впереди.
Возвращаясь по узкой тропинке из домика на отшибе, похожего на скворешник, он увидел человека в наброшенной на плечи шинели, который сидел перед домом на брёвнах, сваленных Бог знает когда, ещё до войны. «Что, спать не дают тебе?» — спросил человек. «Рано ещё», — сказал подросток. «Чего ж ты делал?» — «Читал». — «А? Ты извини, я плохо слышу. Уроки, что ль, делал? Садись, чего стоять».
Читать дальше