Я художник – и писатель, причем одна профессия вытекает из другой, они существуют не параллельно, но являются одним целым. Я пишу большие романы и рисую большие картины, причем картины складываются в книгу, каждая из картин – это глава в повествовании. Так я пишу историю моей страны, нашего общества. Таким образом, я надеюсь создать новую эстетику и восстановить прерванную традицию.
Помимо прочего, я не смог бы перестать рисовать и писать, потому что этому меня научил мой отец, и мой долг перед ним неотменим.
Очень долго я думал, что главное в жизни, это умение сопротивляться окружающей среде. Вы так – а я наоборот, и это был основной принцип, он казался мне исключительно важным. В школьные годы мы выпускали газету «Красный лапоть», потом газету с белогвардейским названием «Наше слово», а потом журнал «Голос». Мы это – я и Андрей Добрынин, мой ближайший друг школьных лет, какое-то время мы даже сидели за одной партой. Школьное прозвище Бункер пристало к Добрынину навсегда, во всяком случае, я его иначе никогда не называл. Мы с Бункером выпустили больше сотни газет – некоторые сохранились.
Сейчас вышел трехтомник сочинений Бункера, а в ту пору Бункер писал в школьных тетрадках свои язвительные стихи, и швейковский юмор советской эпохи предвосхищал соцарт, появившийся несколькими годами позже.
Настал момент, когда соцарт и тот особый стиль речи и мышления, который он воплощал, сделался метаязыком российской интеллигенции. В поздние восьмидесятые этот стиль стал повсеместным – видимо так, такой долгой отрыжкой, прощалось коллективное сознание с фразеологией утопии. Наши отцы и деды говорили пылко и высокопарно, а мы стали говорить с усталым цинизмом. Очень быстро критерием ума стала насмешка – и любой интеллектуал, для того, чтобы его принимали всерьез, должен был обучиться острить. Это напоминало парижские салоны времен Марии Антуанетты, в которых серьезная речь не поощрялась. Подобно французским щеголям, советские интеллигенты говорили кокетливо и едко, избегали прямой речи, страшились показаться серьезными. Странно было наблюдать немолодых людей, читающих со сцены абракадабру, рисующих неумелые карикатуры. В школьных газетах это смотрелось бы, возможно, и неплохо, но даже когда мы, мальчишки, дурачились в школьные годы, то не забывали, что существуют темы, где шутка неуместна.
Точнее сказать, существуют темы, которые невозможно освоить только шуткой. Например, смерть или война. Мы были маленькими – и такие темы приходили нам на ум не часто, но присутствие большой истории, ее тяжелое дыхание, ощущали даже мы. Противопоставление культуры высокой, официальной (культуры университетов, монастырей, двора) и культуры низкой (культуры площадей, которую Бахтин именовал карнавальной), было явлено нам в юности на примере противостояния официальной советской культуры – и ернической, фольклорной. Соцарт утверждал, что официальная советская культура заведомо дурна и пошла – однако заменить ее соцарт оказался не в силах, он служил кривым зеркалом эпохи, и только. Существовал ряд тем, на которые протестная культура просто не умела отреагировать, не обладая соответствующей лексики для описания явления. Невозможно было обсудить ни тему большой войны, ни тему большой политики, ни тему мигрантов и беженцев, ни тему мировой экономики. Одним словом, вышло так, что протестная культура все по-настоящему серьезные темы оставила в ведении советской лексики – а вышучивала лишь частности. Когда сегодняшние волнодумцы возмущаются тем фактом, что у власти в демократической стране остались партийцы и бывшие чекисты, им можно возразить просто: но ведь именно партийцами и чекистам приходилось много лет подряд решать государственные и исторические вопросы, никто больше ими заниматься и не хотел. Можно было позволить себе написать на заборе, что Ленин – дурак, это смотрелось, как мужественное суждение, но написать на том же заборе, что дураком является также и Черчилль, никто не отважился. Такого огульного суждения, вероятно, не одобрил бы западный зритель, а его одобрения заслужить (пусть интуитивно) всем хотелось. Насмешка над советской властью конвертировалась в успех довольно бойко – и тут же становилась гражданской, исторической позицией. И здесь содержался определенный парадокс, который я почувствовал тогда. Над большевиками мне очень хотелось посмеяться – но будет ли такая насмешка точной гражданской позицией? Избирательная смелость в отношении вопросов истории – вещь негодная. В отсутствии суждения по вопросам общей истории, насмешливый комментарий к истории Советской смотрелся неубедительно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






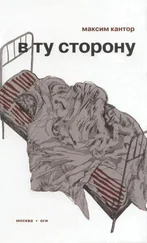


![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)

