Все радикально изменилось с тех пор, как продукция у всех творцов стала одинаковой. Возникла парадоксальная ситуация – вроде как с моими трусами или с ядерной бомбой у Саддама. С одной стороны, искусство открытого общества зовет к свободе, с другой – художники производят стандартную унифицированную продукцию; согласитесь, одинаковая продукция не демонстрирует свободы. Как быть, если видео, инсталляции, абстракции похожи друг на друга до неразличимости? Если N рисует квадраты и NN тоже рисует квадраты, то как отличить N от NN? Если A пишет матерные частушки и B пишет матерные частушки, то вопрос идентификации A и B, причем самоидентификации в том числе, встает очень остро. Участники художественной жизни второй половины двадцатого века подошли к проблеме серьезно. Отныне сам художник сделался необходимым дополнением произведения: его одежда, стиль жизни, внешний вид играют роль значительно более важную, нежели произведение, которое художник создает.
Скажем, в Берлине на всех вернисажах можно встретить двух бритых налысо лесбиянок в розовом трико из латекса. Это немолодые усталые тетки с потасканными лицами. Если бы их одеть просто в платья – на них никто бы не обратил внимания. Если бы они выглядели как все, их произведения (они делают что-то прогрессивное, забыл, что именно) не привлекли бы внимания общества. Но вот появляются в зале два странных лысых розовых существа – и общество взволновано. Люди понимают, что им предъявлен «message». Подобных месседжей ровно столько, сколько существует более или менее заметных фигурантов художественного процесса. Кто выщипывает брови, кто одевается в военный френч, кто носит повязку через глаз, кто рассказывает о своем сексе с домашними животными, кто борется за однополую любовь, и так далее, – одним словом, произведения недостаточно, самовыражение необходимо зафиксировать в облике творца.
И тем примечательнее, что иным деятелям удается без особых усилий приобрести выразительный внешний вид – тогда как большинство потеет, вырабатывая правильную жизненную концепцию.
Вот, допустим, Мэлвин Паттерсон – огромный лысый мужчина с большим животом. Он носит рваную кожаную куртку и тяжелые армейские ботинки, он выглядит так, словно рисует квадраты на полиэтиленовых мешках, потом в эти мешки испражняется и швыряет их с крыши дома. Выглядит Мэл как серьезный человек, которому есть что сказать миру. Но нет, месседж Мелвина гораздо скромнее – он всего-навсего рисует кошек. А выглядит как радикальный художник. Видимо, из-за внешнего вида его и приняли в клуб «Blacks», где собирается продвинутая художественная публика.
Мы доехали до клуба, прошли внутрь – вы наверняка бывали в таких заведениях: что-то вроде дискотеки, только считается, что публика думает о высоком. Все курят марихуану и пьют пиво. Привычная наша брикстонская рванина смотрелась тут как продуманный туалет.
Мы уселись за стол, заказали пива, Мэл познакомил меня с радикальным художником Крисом – бритым наголо геем. Свою сексуальную ориентацию Крис обнародовал незамедлительно после знакомства, он говорил напористо, с вызовом. Крис рассказал также и о своем творчестве. Он собирался обмазать рояль навозом (честное слово, я не сочиняю) и сыграть на нем. И вся фигура Криса свидетельствовала о его неординарности – на пальцах у него были перстни с черепами и фаллосами, в ушах серьги, футболка не закрывала живот, а на животе была татуировка.
– Макс тоже художник, – сказал Мэлвин, и Крис посмотрел на меня подозрительно. Он не склонен был так вот сразу дарить мне титул художника. Много развелось сегодня филистеров, которые именуют себя художниками.
Он спросил меня, что я делаю, и мне стало неловко. Я вообще стесняюсь говорить, что рисую картины – это звучит примерно так же убого, как если сказать, что развожу герань или вышиваю крестиком. И «занимаюсь офортом» тоже не звучит.
И тут я понял: мне есть что сказать. У меня тоже есть месседж. Неважно, что мой месседж прозвучит нелогично – какая уж тут логика, если войну объявляют по причине отсутствия того, что послужило бы поводом к войне.
– Вчера в метро я потерял трусы, – сказал я.
Колин и Мэлвин поглядели на меня тревожно, а Крис всмотрелся мне в лицо внимательно – и в его маленьких обкуренных глазках я прочел одобрение. Мы говорили с ним на одном языке. Он поверил в то, что я тоже художник.
– На какой станции? – спросил Крис.
– В районе Стоквела, – сказал я наугад.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






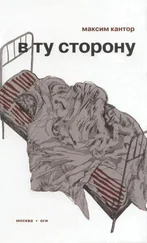


![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)

