– Тунеядец, выходит, – шутит Поддубчиков.
– Нет, он был профессором математики.
– Что ж он математикой-то не занимался? Нам математики ой как нужны.
– Правды хотел.
Помолчали.
– А ты, Захар Матвеич, верующий? – спрашивает Поддубчиков, давя комара.
Волглый выдерживает паузу.
– Я, знаете ли, экуменист.
– А, ну это дело хорошее, – Поддубчиков покивал, погладил Волглого по колену, – это дело стоящее. Я сам хаживаю в церковь теперь. Вот за сестру свечку поставить. За Пашку Лучишкина. Под Курском его потерял. Ты где, Захар Матвеич, воевал?
– Я тогда еще в школе был.
– Помоложе, стало быть. А тоже старик. Теперь нам, старикам, только в церковь да на кладбище.
Снова помолчали.
– Жалко будет Прибалтики, если уйдет, – замечает Семен Семеныч, – особенно творожка ихнего, сметанки, вежливость опять-таки. Все с тактом, с достоинством.
Волглый прячет улыбку.
– Все-таки, Семен Семенович, к достоинству полагается и независимость, – говорит он.
– Это конечно, это пожалуйста. За ради бога. Пусть вон независимо походят без штанов. Независимость, она, брат Захар Матвеич, разная бывает. Одна независимость, например, бывает в штанах, а другая без штанов. Не-е-ет, свобода дело хорошее, пока кушать не хочется. Помню, входили мы в Таллинн в сорок четвертом. Цветами все усыпано. С большим вкусом, конечно, встречали.
– Года через два – только с визой, – жестко говорит Волглый.
– Это вряд ли. Хорошо б нам с тобой, Захар Матвеич, до этого позора не дожить.
Генерал кряхтит и встает.
– Пойдем, что ль, Захар Матвеич, подержишь мне доску, а я стругану. Работник ты, прости господи, хреновый. Вся доска у тебя какими-то буграми идет. Давай, что ль, вместе.
Мы тут с маршалом Чеколдыбиным затеяли корзины плести. Будем их за трешницу на рынке толкать. Деньги, вроде, есть, а заняться чем-то надо, верно? Пойдем, струганем, а потом и по шашлычкам вдарим.
Вечером они сидят у тлеющих углей. Ординарец чистит «Макарова», Волглый ест шашлык, а Поддубчиков рассказывает о своих подвигах.
Вчера весь день молчали, только ночью сосед засмеялся и сказал: «Опять в ссаках поплыл», – у него была аденома предстательной железы. Да утром, часов в пять, кто-то развалил полку с анализами, и опять все смеялись. Да еще за завтраком вошел парень с чудовищно распухшими яйцами (я не знаю, как называется эта болезнь) и сказал: «У меня два яйца», – оказалось, принес сваренные вкрутую яйца.
В остальное же время, когда не ели, мои соседи молча лежали по койкам – спали или слушали радио.
Я должен сказать главное: я симулянт, скрываюсь в урологическом отделении больницы от призыва в армию, симулируя мочекаменную болезнь.
Я прячусь здесь десятый день, а притворяюсь который месяц. Мне приходилось изображать почечную колику дома, в поликлинике и приемном покое больницы, бледному лежать на диване, стиснув зубы и обливаясь потом. Мне надо было делать вид, будто глотаю таблетки, держать их за щекой и, выплюнув в клозете, докладывать потом о переменах в здоровье.
Мне надо было сдавать десятки поддельных анализов и часами беседовать с врачами, которые норовили огорошить непонятным вопросом.
Я чувствовал себя загнанным. Мне надоела бурая войлочная пижама и казенное белье с неотстиранными желтыми пятнами. Мне осточертела вонючая палата, уколы, душная подушка, набитая поролоном, обходы врачей, соседи.
Они-то были заодно. Хоть и молчали, а находили общий язык.
Я их сторонился; между нами что-то стояло. Мое вранье.
У меня было много оснований не служить в армии, пожалуй, не хватало только болезни, все остальные были налицо. Я просто не мог себе позволить чему-нибудь такому служить.
Я боялся, что меня поймают, что уже не выберусь, меня закрутило: военкомат, врачи, больница, проверки.
Соседи стали делить курицу, разложив на постели газету.
– Угощайся.
– Нет, спасибо.
Не хотелось есть в палате – пахло мочой. Но дело даже не в этом. Я чувствовал, что после братания курицей начнется дружеский разговор, когда от скуки выворачивают душу. Не люблю.
Я отвернулся и стал глядеть в окно. Небо было серое, по нему носились черные рваные облака, они смешивались с дымом из труб дальних корпусов больницы. Говорили, что дальние трубы – это крематорий.
Я вышел в коридор; подходило время сдавать анализы. Не буду рассказывать всего – слишком долго; в заурядном анализе требуется лишь немного крови. Английская булавка всегда была заколота в рукав, но продырявить себе палец на глазах медперсонала не всегда удается.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






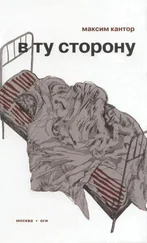


![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)

