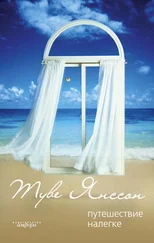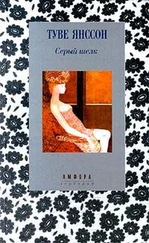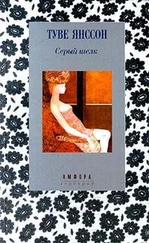Фанни — единственная, кто не боится лошадей. Она кричит и поворачивается к ним спиной, она делает все, что хочет. Если кто-нибудь просит ее помыть посуду не по-доброму, она уходит в лес, остается там много дней и ночей и поет, пока не накличет дождь.
Она никогда не бывает одна.
Есть пять заливов, где никто не живет. Если обойти кругом первый, то придется обойти и остальные. Первый — широкий и битком набит белым песком. Там есть пещера с песчаным дном. Стены ее всегда мокрые, а в потолке трещина. Пещера длиннее, чем я, когда лежу на спине, а сегодня она холодна как лед. В самой глубине пещеры узенькая черная норка.
И вот мой таинственный друг вылезает из этой норки.
Я сказала:
— Какое прекрасное, какое очаровательное утро!
А он ответил:
— Это утро не обычное, потому что я слышу, как кто-то бормочет за горизонтом!
Он сидел за моей спиной, и я знала, что шкурка его полиняла и он не хочет, чтоб на него смотрели. И я совершенно равнодушно сказала:
— В пятницу тоже бормотали. Ты видел Фанни?
— Перед сумерками она сидела на рябиновом дереве, — ответил он.
Но я знала, что Фанни неохотно лазает на деревья и что мой друг пытается лишь произвести на меня впечатление. Так что я ничего не сказала, пусть остается при своем… Приятно быть в обществе. Когда он заметил, что я не желаю разговаривать, он немножко поиграл мне. В пещере стоял ледяной холод, и я решила уйти, как только он кончит играть. Так что после последней ноты я сказала:
— Это был приятный визит. Но мне кажется, пора, к сожалению, прервать его. Как дела дома?
— Очень хорошо, — ответил он. — Моя жена родила пятерых детишек. Все — девочки.
Поздравив его, я пошла дальше.
Когда солнце встает, вода в первом заливе покоится в тени лесных деревьев, а у самого притока скалы — красные. Тростник светится только по вечерам. Ты идешь, идешь и идешь, и вдруг начинает дуть утренний ветер. Другой залив, тот, что весь зарос и буквально набит тростником, шелестит, когда над ним проносится ветер. Ветер шумит, что-то шепчет и медленно, мягко-мягко свистит, и ты входишь прямо в заросли тростника, и тебя осыпают ласками со всех сторон, а ты идешь и идешь и вообще ни о чем не думаешь. Тростник — это джунгли, которые тянутся до самого края земли. Над всей землей ровно ничего нет, кроме шепчущего тростника, и все люди вымерли, а ты — единственная, кто есть на свете, и только все идешь и идешь в зарослях тростника.
Я иду так долго, что становлюсь длинной и тонкой, как травинка, а волосы мои превращаются в мягкую метелку какого-то растения, и в конце концов я пускаю корни и начинаю шуршать, и шелестеть, и шуметь, как все мои сестры-тростинки, и время никогда не кончается.
Но в глубине залива засел громадный лоцман, и он говорит:
— Хо-хо! Хо-хо! Думаю, подул западный ветер. У лоцмана рыжие усы Чельгрена и голубые глаза Шёблума [12] Друзья отца писательницы.
, на нем лоцманская форма, и наконец-то он замечает меня.
Задрожав от радости, я отвечаю:
— Я бы сказала, девять beaufort [13] То есть 9 баллов по шкале Бофорта — условной шкале для оценки силы ветра в баллах.
, если не больше. Нельзя ли выпить стаканчик?
— Ну да ладно, раз уж приходится растрачивать здесь свою водку, — отвечает он и протягивает мне свой стакан.
Я наливаю водки и пять раз выпиваю по стакану.
— Ну а что ты думаешь о сиге зобатом? — продолжает он.
— Он поднимется наверх, — говорю я. — Если этот ветер удержится…
Он задумчиво и оценивающе кивает.
— Да-да, — говорит он. — Да-да. Это, вероятно, так и будет.
Мы выпиваем шесть литров самогона и два ведра кофе, что пьют в день летнего солнцестояния, после чего я говорю:
— Думаю, худо нынче проводить суда среди шхер.
— Может быть, может быть, — отвечает он.
А потом я уже не могу его дольше задерживать.
Печально, когда видения становятся туманными, расплывчатыми и исчезают. Рассказываешь о них или нет, они все равно исчезают. Продолжать говорить тогда не стоит, потому что это становится просто смешно и чувствуешь себя одинокой.
Но вот появляется третий залив.
Именно там мы с папой и нашли наши первые бидоны. Это был великий день, который никто из нас не забудет до самого конца своей жизни.
Папа сразу увидел, что это такое. Он весь одеревенел, и у него вытянулась шея. Он влез на камни и начал вытаскивать мешок. Мешок был старый и прогнивший, но внутри звенели бидоны, и папа спросил:
— Слышишь? Слышишь этот звук?!
Читать дальше